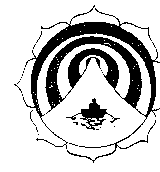
Санкт-Петербургский государственный университет
Философский факультет
Кафедра философии и культурологии Востока
Молодежное научное общество “Традиции Востока”
III Молодежная научная конференция
Путь Востока
20-21 апреля 2000 г.
доклады
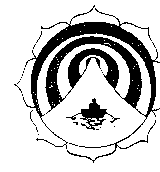
Оглавление:
Угай Д. В. Проблема трансцендентного субъекта в персоналистическом направлении веданты…………………………………………………………………..2
Асташкевич С. А. Принцип причинности и понятие свободы согласно веданте………………………………………………………………………………………6
Панфилов Н. Н. Концепция ишавасьи в ведической архитектуре……………11
Бурмистров С. Л. С.Радхакришнан: понятие интуиции и формирование индийской философии………………………………………………………………………15
Пахомов С. В. Понятие майи и проблема истинной идентификации в тантризме………………………………………………………………………………………20
Ольшевский А. П. Понятие пустоты (шуньяты) как объект тантрической садханы в индийской религиозной традиции……………………………………………...24
Николаева М. В. Намасмарана, или техника памятования имени в учении Шри Сатья Саи………………………………………………………………………………29
Семенов А. Н. Восток и Запад: два типа исторического сознания……………...34
Гроховский П. Л. Источники для изучения “Самадхараджа-сутры”…………..38
Елинский М. В. Аналитическое освоение этапов пути к Пробуждению в тибетской буддийской традиции Гелуг. Этапы малой и средней личности……………..61
Берснев П. В. Абсолют и дуальный мир………………………………………….51
Гунский А. Ю. Женщины в раннем буддизме (по материалам палийского канона)………………………………………………………………………………………56
Перекатиева Н. В. Типы адаптации буддизма в немецкой культуре………….44
Чекалова Л. В. “Лотосовая сутра”: основные приемы буддийской педагогики……………………………………………………………………………………….68
Шомахмадов С. Х. Подвижник “Лотосовой сутры” (Нитирэн и его теократическая доктрина)…………………………………………………………………………73
Зельницкий А. Д. О соотношении даосских и буддийских элементов в “Пу-мин баоцзюань”…………………………………………………………………………….78
Котенко А. А. Теодицея в “И Цзин” (по письмам Г. Лейбница о китайской философии)……………………………………………………………………………….80
Хаютина М. С. Природа и этика “дружбы” в Древнем Китае эпохи Западного Чжоу (XI – VIII вв. до н. э.)…………………………………………………………...86
Акулов А. Ю. Айнская компонента японского этногенеза………………………91
Кошелев А. М. Внутренние факторы формирования японского социума……..94
Степанишина А. И. Современная образовательная система в Японии: традиция и тенденции развития…………………………………………………………………98
Гусева С. Ю. Сенека в Египте (эллинистический Восток глазами римлянина I в.)……………………………………………………………………………………...103
Климов С. А. Космос и история в иудаизме……………………………………106
Скоков С. Н. Феноменология и мистический опыт Православия…………….108
Корнилов А. П. Вопрос о воссоединении коптской церкви с православием…112
Приложение. Пахомов С. В. Общество “Традиции Востока”…………………116
Угай Д. В. (РГИ при СПбГУ)
Проблема трансцендентного субъекта в персоналистическом направлении веданты
Говоря о трансцендентном субъекте, мы будем иметь ввиду реальное индивидуальное существо, находящееся вне сферы досягаемости обыденного опыта и познания, основанного на опыте. В этом смысле взятое словосочетание близко по смыслу к кантовскому толкованию термина “ноумен”.
Сразу же может возникнуть вопрос о том, как можно удостовериться в реальности такого существа. К нему неприменимы известные критерии существования, такие, как “существовать – значит быть воспринимаемым” Беркли или cogito ergo sum Декарта, поскольку трансцендентный субъект предполагается существующим вопреки его недоступности рефлексии или восприятию чрез органы чувств. Трансцендентное не может выступать предметом нашего непосредственного опыта, поэтому естественно спросить: что мы имеем ввиду, когда говорим, что трансцендентный субъект существует или не существует?
В данной работе мы примем рабочее определение существования трансцендентного как того, что может быть воспринято посредством неординарного, трансцендентного опыта и подтверждено авторитетом традиции. Несмотря на свою запредельность по отношению к феноменальной сфере, трансцендентное, тем не менее, способно оказывать влияние на жизнь и физическую природу.
В “Шри-бхашье” Рамануджи содержатся семь известных аргументов против доктрины иллюзорности мира (sapta – anupapatti) ([2], 130). Критика адвайты сопровождалась новыми ведантистскими концепциями эмпирической и духовной реальности. В персоналистической веданте описываются три онтологических уровня, на которых проявляет себя Брахман: Ishvara (Верховный Господь), chit (индивидуальные живые существа), achit (материальная природа). Живoе существо (atman) атомарно по размерам (с феноменальной точки зрения). Все живые существа (jivatman) отличны друг от друга, их бесконечное множество. Дживы вечны и переселяются из тела в тело в соответствии со своей кармой. Джива выступает как субъект познания (jnyatri), ощущений (bhoktri) и деятельности (kartri). Живое существо сохраняет индивидуальность и после освобождения, кода оно возвращается в духовный мир и пребывает в нём в состоянии блаженства, знания и бытия как вечный слуга Бога. Поэтому сущностью субъекта является вечная деятельность (bhakti), как любовное служение Богу. ([1], 135).
Отношения между Брахманом-Ишварой, миром и душами по-разному понимаются в учениях Мадхвы и Рамануджи. В вишиштадвайте Рамануджи мир и души трактуются как атрибуты, “тело” Ишвары. Верховный Господь является и потенциальной (upadana), и актуальной (nimitta) причинами творения. ([2], 137). Он наделен бесчисленными трансцендентными атрибутами, в том числе красотой, силой, славой, знанием, богатством и отреченностью. Хотя атрибуты Бога бесконечны по количеству, а многие - и по размерам, их все же можно до некоторой степени познать: Он не безатрибутная “вещь в себе”. В число Его атрибутов входят мир и дживы: они связаны “нерасторжимой связью” (aprithak-siddhi). Невозможно помыслить мир и дживы без Бога (Вишну), как нелья представить и Вишну без них. Джива никогда не может сравняться с Вишну в Его непревзойденных атрибутах и эманациях, но всегда занимает подчинённое положение.
Двайта настаивает на пяти видах абсолютных различий: между Ишварой и дживами, между Ишварой и миром, между двумя дживами, между дживой и материей и между двумя неодушевленными предметами ([2], 197). Вишну полон совершенств и полностью независим, Он трансцендентен к миру и не имет никаких имманентных атрибутов. Он является лишь инструментальной (nimitta), но не материальной (upadana) причиной мира. Дживы суть отражения (abhasa) Брахмана, но не в адвайтистском понимании. Джива отражается не во временных upadhi, она есть отражение по самой своей природе, “является и отражением, и зеркалом одновременно” ([2], 151).
Обобщая, можно сказать, что в персоналистском ведантизме мы имеем следующее понимание природы трансцендентного субъекта:
Доктрина одновременного единства и различия Брахмана и мира (bheda-abheda) начала формироваться ешё до Рамануджи в трудах ведантистов Бхаскары, Бхартрипрапанчи и др. Эта теория – лишь вариант адвайта-вады. Рамануджа, поэтому, отвергает её и обосновывает систему вишиштадвайты. Но концепция “единства-в-отличии” была позднее взята на вооружение другими ачарьями-вайшнавами и переработана в
духе персонализма. Нимбарка корректирует как условный монизм Рамануджи, так и радикальный дуализм Мадхвы. Согласно его пониманию (svabhavika bheda-abheda) Brahman, chit и achit равно реальны, вечны и самостоятельны. Хотя chit и achit отличны от Брахмана, они одновременно едины с Ним. В отношении джив и мира к Брахману равноправны как единство, так и отличие. Chit и achit относятся к Брахману как следствия к причине, а не как атрибуты к субстанции. Однако следствия количествено отличны от причины, хотя качественно едины с ней. ([8], 229 - 230).Эту концепцию позднее детально разработали последователи Шри Чайтаньи. Наиболее важные философские работы этой школы принадлежат Дживе Госвами, Рупе Госвами и Баладеве Видьябхушане.
В “Бхагават-сандарбхе” Джива Госвами говорит, что высшая конечная реальность – это Бхагаван, личностный аспект Брахмана. Он – вместилище бесконечно разнообразных потенций (shakti). В нём укоренены сущностные и производные потенции, и вся эта тотальность бесконечных энергий Сама являет Себя на разных онтологических уровнях. На уровне бесформенного Брахмана не все качества и энергии высшей реальности явлены сознанию адепта (asamyag – avirbhava), здесь ощущается лишь единство своей природы с природой Брахмана без вхождения во взаимоотношения. На уровне всепронизывающего аспекта Вселенской Души (Paramatman) реализуются частичные аспекты взаимоотношений, которые полностью раскрываются лишь на уровне Бхагавана (sanyag – avirbhava). Поскольку Высшая Реальность – это личность, она сама являет Себя согласно различным желаниям джив (т. н. “доктрина преобразования энергий” – shakti-parinama-vada).
Потенции, содержащиеся в Боге, качественно разнородны, но тем не менее присутствуют в Нём одновременно. Могущество Бога супрарационально (acintya). Джива Госвами говорит, что отношения источника и энергий, субстанции и качеств, единства и множественности супралогичны, поскольку в логическом дискурсе мы приходим к единству всего, тогда как опыт свидетельствует о разнообразии. Поэтому он приходит к выводу, что во всех подобных прецедентах мы сталкиваемся с проявлением непостижимых энергий (achintya – shakti). Вечные сущностные потенции (antaranga svarupa-shakti) укоренены в самой природе высшего Брахмана (svarupena) и Его различных проявлениях, таких, как Его духовная обитель, игры, формы, имена и качества. Производные потенции могут быть промежуточными (tatastha-shakti) – индвидуальными “Я” и внешними (bahiranga-maya-shakti) – развёрнутыми космическими категориями. Внешняя энергия может ввести в заблуждение дживы, но не Брахмана. ([5], т. 4, с. 396 - 400). Джива есть tatastha-shakti Верховного Господа. “Я” всегда индивидуально и обладает независимыми желаниями. Оно блаженно в своём первозданном состоянии: скорбь, зависть, иллюзия относятся к ментальной оболочке (man
as), а не к истинной сущности. “Я” атомарно по размерам, и потому неуничтожимо, неделимо и неизменно. “Я” множественны, моё “Я” отлично от других. “Я” едино с Верховным Господом, поскольку обладает теми же качествами сознания (sat-chit-ananda), но отлично от Него в способности творить мир, способности всеведения и т. п. “Я” обладает трансцендентной формой, хотя и временно скрытой под покровом феноменальных характеристик. Сознание присуще трансцендентному “Я” всегда, даже в состоянии глубокого сна без сновидений (sushupti). Однако его сознание ограничено данным телом, в то время как Господь в образе Параматмана способен сознавать все тела. Баладева приводит пример со светильником, освещающим всю комнату, но не всю вселенную. Джива – отражение Верховного Брахмана, но не в силу временной ограниченности, а по самой своей природе (как и у Мадхвы). Джива познаёт, действует и пожинает плоды своих действий, однако способности и возможности для этого ей предоставляет Верховный Господь через посредство её кармы. Джива обладает свободой воли, но ограниченной по сравнению с Господом, свобода которого не имет границ ([8], 67 - 76).После освобождения джива сохраняет индивидуальность, разворачивая свою духовную форму, в которой постоянно служит Господу. Она входит в состояние освобождения “как птица влетает в крону дерева, как зверь вбегает в лес или как самолёт взмывает в небо. Ни в одном из этих случаев индивидуальность не утрачивается” ([3], 238).
Влияние внешней потенции (maya-shakti) можно преодолеть не путём собственных сознательных усилий. Его устраняет Сам Господь при помощи Своей особой энергии (hladini-shakti). Атом этого блаженства находится в сердце дживы, как часть вечной энергии наслаждения, он – проявление hladini-shakti и осознаётся как bhakti. Поэтому bhakt
i – не только средство, она – вечная духовная функция дживы, её высочайшее сущностное свойство (parama dharma). Вhakti проявляется во всей своей полноте не в стяжании земных или небесных благ, не в достижении личного спасения, а в бескорыстном любовном служении Богу ([7], 117).В “Бхакти-расамрита-синдху” Рупа Госвами сравнивает регулируемую практику пробуждения бхакти с обучением ребёнка ходить. Способность ходить уже есть у ребёнка, она не создаётся упражнениями, но развивается благодаря практике. Также и бхакти, изначально пребывая в сердце, постепенно пробуждается по мере того, как человек очищается от эгоистических желаний, следуя строгим правилам и запретам ([4], 45 - 46). Наиболее важный принцип, установленный как средство самоосознания - повторение всеблагих имён Бога – “Великой песни освобождения”: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.
В этой школе мы видим кульминацию учения о Вишну-бхакти, начало которому положили другие учения вайшнавизма. Бхакти – не только способ освобождения и даже не столько метод, сколько самосущее свойство дживы, самодостаточное и независимое ни от чего другого. В “Бхакти-расамрита-синдху” Рупа Госвами даёт следующее определение самосущей бхакти: “чистая бхакти свободна от желаний мирских удовольствий, достижения райских миров и освобождения от физических и психических страданий. Она есть спонтанное бескорыстное желание служить своими чувствами Владыке чувств (Кришне).”
Буддизм и адвайта – веданта связывают страдание и иллюзию феноменальной сферы с субъективным и вообще личностным началом. Избавление от беспокойства достигается, когда субъективное полностью редуцируется к деперсонифицированному принципу: бесконечной совокупности дхарм, шуньяте, беспредельному сознанию Татхагаты или всепронизывающему божественному “Я”. Страдание происходит от неправильного понимания, согласно которому индивидуум думает, что наделён свободной волей, сознательной активностью и уникальным бытием. Поэтому буддисты и адвайтисты первостепенное значение уделяют правильному познанию и феноменологическим, психологическим, этическим, эпистемологическим вопросам.
Согласно же философии вайшнавизма, трансцендентное не познаётся, как пассивный объект, а само открывает себя по своему свободному желанию в ответ на определённые желания субъекта, вступающего в отношения с ним. По теории вайшнавов, феноменальный мир – часть самоочевидной энергии Бога, и эта энергия охватывает также способности восприятия отдельных индивидуумов. Ещё одна часть Его энерий –
бесконечное множество отдельных джив. Когда один вид энергии (дживы) попадает в сферу действия другой (майи), это происходит из-за относительной независимости джив. Но это не означает фантасмагории или несуществования майи или дживы. И майя, и джива – онтологические истины, но джива выходит из-под влияния внутренних потенций Бога (svarupa-shakti), становясь как бы трансцендентной к ним, и поэтому считает себя феноменальной личностью. В этом смысле освобождение означает утрату индивидуальности, поскольку феноменальное “Я” (ahankara) разрушается. Однако, став трансцендентной к внешней энергии, джива обретает феноменальное существование по отношению к внутренней энергии, становится трансцендентной к физической и психической материи личностью (samvidvapuh, или siddhadeha). Сущностью этой духовной формы является bhakti, которое, впрочем, можно совершать и не покидая формально физического тела, поскольку энергии Бога абсолютны. Таким образом, выбрать трансцендентную или феноменальную обусловленность – это лишь дело свободного выбора дживы, однако в любом случае она пребывает “внутри” бесконечных энергий Бога и никогда не способна оказаться вовне их либо стать их господином.Материалисты подчёркивают практическую деятельность по преобразованию феноменального мира, стремясь построить “царство Бога без самого Бога”. В противоположность им имперсоналисты смотрят на мир как на место постоянных страданий, каким бы замечательным он ни был после переустройства. Поэтому исключительно важным оказывается верное знание, противопоставленное деятельности: цель заключается в том, чтобы обрести полное знание и утратить любую активность, приводящую лишь к новой карме. Бхакти синтезирует эти противоположные тенденции на новом качественном уровне: оно в определённых аспектах есть и практическая деятельность, и знание, избавляющее от страданий, и вместе с тем возвышается и над тем, и над другим в чувстве любви к Богу. Здесь свобода и ответственность за свои действия становятся вечными экзистенциалами дживы как вечно активного, вечно сознаюшего любящего существа.
Литература
Асташкевич С. А.
(СПбГУ, физич. ф-т)Принцип причинности и свобода согласно учению веданты
Учения целого ряда древнеиндийских традиций основаны на понимании свободы как важнейшего онтологического и методологического принципа. Это особенно верно для школы веданта (веда - знание и анта - завершение), входящей в систему шести основных школ (шат-даршана) ведической мысли ([1], с. 67 - 71). В то же время, одно из центральных мест в метафизической системе Веданты занимает принцип причинности. Это отмечается в “Бхагавад-гите” (текст 13. 5) [2]: "знание о поле деятельности и знающем поле деятельности описывается разными мудрецами в различных Ведических писаниях. Особенно подробно оно представлено в "Веданта-сутре" с объяснениями в терминах причин и следствий". Цель настоящей работы состоит в том, чтобы попытаться сформулировать основные особенности подхода к принципу причинности и понятию свободы в учении веданты, и проиллюстрировать их методологическую реализацию на примере традиции гаудия-вайшнавизма. При этом мы
будем опираться на тексты Упанишад, “Веданта-сутры” [3], “Бхагавад-гиты” [2] и “Бхагавата Пураны” [4] (при цитировании которых будем использовать следующие обозначения: Уп., В. с., Б. г. и Бхаг., соответственно) и комментарии к ним.Сразу же уточним особенности терминологического использования ключевых понятий. Понятие “теистические учения веданты” будем относить ко всем школам (сампрадаям) веданты (Рамануджа, Мадхва, Нимбарка, Вишнусвами), принимающим как высший аспект реализации Абсолютной Истины личного Бога. Под “вайшнавизмом” (или вишнуизмом), будем понимать традицию поклонения личному Богу Вишну (Кришна, Рама), основанную на одном из теистических учений веданты. При анализе особенностей отдельных школ вайшнавизма, будем приводить ссылки на эти конкретные школы.
Элементы метафизической системы веданты
Согласно теистическим учениям веданты, Высший аспект Абсолютной Истины реализуется как Верховная Личность Бога (Бхаг. 1. 2. 11), который рассматривается не просто как Верховный Повелитель и Контролер (парамешвара), но как Высшая Реальность (пара-таттва), причина всех причин (“сарва карана каранам - “Брахма-самхита 5. 1”), источник безграничных энергий. Это заключение основывается на многочисленных утверждениях шрути (Иша Упанишад 1, Шветашватара Уп. 6. 8, Чхандогья Уп. 6. 8. 4, Катха Уп. 2. 2. 13) и смрити (Б. г. 7. 7, 9. 10, 10. 8; Бхаг. 2. 4. 7, 3. 26. 18, 5. 18. 32 - 33) (см. также [5], с. 339). Рамануджа в своей работе “Ведартха-санграха” также отмечал недостаточность понимания Брахмана, Всевышнего, только как Сознание и необходимость знания о том, как Он действует через Свои многочисленные энергии (цит. по [6], с. 133). В этом состоит принципиальное отличие теистических учений веданты от монистической концепции адвайта-веданты Шанкары.
Всеми теистическими школами веданты дается следующая классификацию энергий Всевышнего: внутренняя (антаранга-шакти), внешняя (бахиранга-шакти) и пограничная (татастха-шакти) ([1], т. 4, с. 380, 398 - 399). Первые две энергии проявляют, соответственно, духовный (вайкунтха) и материальный мир (майя), а пограничная энергия - живые существа (дживы), наделенные возможностью пребывать или в духовном, или в материальном мире. Различие между отдельными теистическими школами Веданты определяется, в основном, особенностями их подхода к вопросу о единстве и отличии Всевышнего и Его энергий: концепция качественного единства (вишиштадвайта) - Рамануджачария; дуализм (двайта) - Мадхвачария; двойственность и единство (двайта-адвайта) – Нимбаркачария; чистый дуализм (шуддха-двайта) - Вишнусвами.
Развитие этих подходов, с учетом особенностей учения каждой сампрадаи, было сделано Шри Чайтаньей и сформулировано как философия непостижимого (ачинтйа) (supra-logical и supra-rational) одновременного единства и различия (бхедабхеда) Верховного Господа и Его энергий. Согласно ей, живые существа, будучи вечно индивидуальными сущностями (Б. г. 2. 12), несоизмеримы с Верховным Господом в количественном отношении (Б. г. 15. 7), но однородны с ним по своим субстанциональным качествам (Б. г. 7. 5), что делает возможным реализацию личностных отношений между живыми существами и Верховным Господом. Этот подход был детально развит в работах Рупы Госвами, Дживы Госвами, Вишванатхи Чакраварти Тхакура, Баладевы Видьябхушаны и составил основу бенгальского вайшнавизма, или гаудия-вайшнавизма, одной из ветвей сампрадаи Мадхвы. Дальнейшее рассмотрение будет, главным образом, основано на анализе этого философского подхода.
Согласно Баладеве Видьябхушане, автора “Говинда-бхашьи”, комментария гаудия-вайшнавов на “Веданта-сутру”, основными онтологическими элементами Веданты являются: ишвара (Господь), джива (живое существо), пракрити (материальная природа), кала (время) и карма (деятельность) (цит. по [7], с. 18). Кратко охарактеризовав первые три понятия, перейдем к более подробному рассмотрению понятия времени и принципа причинности.
Дефиниция времени в “Бхагавата Пуране”
Положение “Бхагавата Пураны” как совершенного комментария к “Веданта-сутре” особенно подчеркивается в “Гаруда Пуране”. Там сказано, что она была составлена Вьясой, автором “Веданта-сутры”, и состоит из двенадцати песен и восемнадцати тысяч стихов (цит по [8], с. 92). Определение времени дается в третьей песне "Бхагавата Пураны" (глава 10) [4]. Приведем перевод текстов 10-ого и 11-ого: "Видура попросил Майтрею: О господин, о великий мудрец, расскажи мне о вечном времени (кала), которое является одной из форм Верховного Господа, вершителя чудесных дел. Каковы признаки (лакшинам) вечного времени? Прошу расскажи мне о них как можно подробнее". Великий мудрец Майтрея ответил: "Вечное время является изначальной причиной взаимодействия трех гун материальной природы. Вечное время неизменно и беспредельно, оно - орудие в руках Верховного Господа, который с его помощью являет в материальном мире Свои игры". Это утверждение обладает всеми необходимыми признаками сутры, т. е. кратко, универсально применимо и грамматически безупречно. Учитывая то, что это утверждение идет сразу же за вопросом и, по существу, полностью проясняет его, эту сутру можно рассматривать как обладающую наивысшим гносеологическим статусом, как так называемую парибхаса-сутру
.Анализ этого определения времени позволяет выделить структуру понятия причинности: 1) вещественная причина (время как источник, изначальная причина взаимодействия трех гун (модусов) материальной природы); 2) формальная причина (качественная и количественная неизменность и беспредельность времени); 3) действенная причина (время как орудие в руках Верховного Господа) и, наконец, 4) целевая причина (с помощью времени Господь являет Свои игры в материальном мире). Видно, что определение времени, даваемое “Бхагавата-Пураной”, существенно телеологично. Этот же вывод содержится в “Бхагавад-гите” (гл. 11), описывающей вселенскую форму Верховного Господа, включающую безграничные пространства вселенной в прошлом, настоящем и будущем.
Следует отметить, что, согласно данному определению, время трансцендентно по отношению к материальному проявлению и его составляющим (24 элементам в учении санкхьи (Б. г. 13. 6 - 7)) (Б. г. 11. 32, Бхаг. 1. 13. 19, 1. 8. 28, 3. 26. 18). В своей монографии С. Дасгупта, цитируя работу Дживы Госвами “Шат-сандарбха”, также отмечает, что в учении Веданты, в отличие от санкхьи, три гуны материальной природы (саттва
, раджас и тамас) производятся движением энергии времени (кала), но духовный мир (саттва-вайкунтха) находится за пределами контроля времени ([1], т. 4, с. 397).Принцип причинности и свобода
Принцип причинности в учении веданты тесно связан с понятиями трансформации (паринама) и проявления (абхивьякти), одними из центральных как в теистических учениях веданты (Мадхва, Джива Госвами, Баладева Видьябхушана; Нимбарка) ([1], т. 4, с. 150, 406 - 407, 442 - 445), так и в адвайте-веданте Шанкары. Учение школы ачинтья бхедабхеда (Джива Госвами, Баладева Видьябхушана) определяется как шакти-паринама вада, или учение о трансформации энергии Верховного Господа (“Чайтанья-чаритамрита”. Ади-лила.7. 121 - 123) ([6], с. 114 - 119). Принципиальное отличие этого учения от концепции брахма-паринама-вады (теория трансформации Брахмана) и виварты-вады (теория иллюзии) школы адвайты состоит в том, что в нем: 1) утверждается вечная индивидуальность Всевышнего, которая не претерпевает изменений, несмотря на бесчисленные энергии, исходящие из Него, и 2) материальный мир, как энергия Всевышнего, также принимается как реально существующий, но временный. Суть этого подхода сформулирована в Обращении к Иша Упанишад [9].
С другой стороны, принципиальное отличие теистических учений Веданты от атеистической философии санкхьи состоит в понимании следствия (effect), т. е. материального творения, не как независимого проявления, уже существующего до действия причины (causal operation), но как проявления энергии Всевышнего Господа, от которого оно всецело зависит, в ком имеет свою причину и по чьей воле оно происходит (Баладева Видьябхушана, "Говинда-бхашья", 2. 1. 14) (цит. по [1], т. 4, с. 443). Теистическое учение санкхьи приведено в третьей песне “Бхагавата Пураны” (главы 25 - 32).
Также следует отметить существенное отличие теистических учений Веданты от концепции деизма при подходе к проблеме творения. Согласно этим учениям Веданты, и изменение материальной природы, и деятельность живых существ, контролируются и санкционируются Верховным Господом через Его экспансию Пуруша-аватару - Кширодакашайи Вишну, или Сверхдушу (Параматма) (Б. г. 10. 20, 13. 23, 15. 15).
Проведенный анализ определения времени и структуры принципа причинности позволяет, в свою очередь, рассмотреть структуру понятия свободы. Можно выделить следующие ее составляющие: вещественная свобода (от обусловленности гунами материальной природы); формальная свобода (реализация вечности), свобода действия (основанная на реализации знания о Верховном Господе и Его энергиях); свобода цели (реализация своей исполненной трансцендентного блаженства духовной природы во взаимоотношениях с Верховным Господом). И, наоборот, несвобода живого существа, находящегося под влиянием материальной энергии (майя), обусловлена противопоставлением его индивидуальных желаний желаниям Верховного Господа.
Формальная свобода раскрывается через осознание живым существом вечности своего существования (ахам брахмасми - я есть дух). В “Бхагавад-гите” (18. 54) говорится, что на этом уровне живое существо “никогда не скорбит и не имеет никаких желаний” [2]. В теистических школах веданты, в отличие от адвайты, формальная свобода (“свобода от”) рассматривается лишь как начальный уровень освобождения. Подлинная свобода (“свобода для”) понимается как реализация живым существом его индивидуальной духовной формы (сварупа), обладающей не только вечным бытием (сат), но также знанием (чит) и блаженством (ананда). Все эти неотъемлемые качества души проявляются только в любовном преданном служении живого существа Верховной Личности Бога (бхакти). Индивидуальность изначальной духовной формы живого существа отражает определенный характер его взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. Этот же вывод сформулирован в атмарама-шлоке (Бхаг. 1. 7. 10), в которой говорится, что “все различные атмарамы [те, кто черпает наслаждение в атме, духовном “Я”], особенно те из них, кто утвердился на пути самоосознания, желают нести беспримесное преданной служение Личности Бога (ахайтуки бхактим), несмотря на то, что освободились от всех материальных пут. Это означает, что Господь обладает трансцендентными качествами и поэтому привлекает всех, в том числе и освобожденные души” [4].
Методологические особенности учения бхакти гаудия-вайшнавизма
Определение бхакти в форме парибхаса-сутры дано Рупой Госвами в “Бхакти-расамрита-синдху” (тексты 1. 1. 11). Согласно этому определению, основными признаками беспримесной бхакти (уттама-бхакти) является чистота мотивации (анйабхилашита-шуньям) совершающего преданное служение Верховной Личности Бога (бхакта), свобода бхакты как от материальных желаний, так и от желания освобождения (джнана-кармани анавритам), ее позитивная направленность (анакульенам) на свой объект, Кришну, и ее активность, реализуемая через деятельность тела, речи и ума (анушиланам). В основе этой деятельности лежит воспевание и слушание имени, формы, качеств и деяний Верховного Господа (Бхаг. 7. 5. 23). Это определение основано на последовательно персоналистическом понимании Верховной Личности Бога и живого существа. В соответствии с этим определением, бхакти можно рассматривать как осуществление конкретной свободы (в отличие от понимания имперсонального освобождения в учении адвайта-веданты). Подробное описание признаков и различных типов бхакти приведены Рупой Госвами в “Бхакти-расамрита синдху” (см. [10]) и Дживой Госвами в его работе “Бхакти-сандарбха”.
Бхакти рассматривается как вечная, наиболее существенная деятельность живого существа (санатана-дхарма), полностью отвечающая его изначальной духовной природе. Оно находится вне действия закона причинно-следственных связей (ахайтуки), регулирующих материальную деятельность, и вне влияния времени (апратихатам) (Бхаг. 1. 2. 6). Подчеркивается, что те, кто совершают беспримесное бхакти также не подчиняются действию времени (Бхаг. 2. 3. 17).
Согласно учению гаудия-вайшнавизма (Рупа Госвами, Джива Госвами), бхакти в зависимости от чистоты сознания совершающего его проходит следующие стадии: 1) выполняется в материальной сфере, когда бхакта обусловлен гунами материальной природы; 2) совершается как регулируемая практика в соответствии с предписаниями шастр (садхана-бхакти); 3) становится спонтанным любовным служением Верховному Господу (рагануга-бхакти). Подчеркивается, что практика бхакти-йоги основана на знании своего конституционального положения по отношению к Верховному Господу и Его энергиям (самбандха-джнана) и свободе выбора живого существа (Бхаг. 11. 18. 36). Суть этого методологического принципа содержится в “Бхагавад-гите” в заключительных наставлениях Шри Кришны Арджуне: “Итак, Я открыл тебе самое сокровенное из всего знания. Хорошо обдумай это, а потом поступай, как пожелаешь” (Б. г. 18. 63).
Один из основных выводов теистических учений Веданты состоит в том, что практика бхакти, в отличии от практики кармы и джнаны, способна уничтожить не только реакции кармической деятельности, но и их источник - семена греховных желаний, являющиеся самым глубоким проявлением ложного отождествления живого существа (аханкара) (Бхаг. 6. 1. 15, Брихад-араньяка Уп. 4. 44. 22) ([10] с. 30 - 33). Таким образом, освобождение живого существа связано не с действием закона кармы, а определяется трансцендентной ему деятельностью преданного служения Верховной Личности Бога и Его беспричинной милостью. Для такой деятельности используется понятие акарма (Б. г. 4. 19 - 23). В качестве иллюстрации можно привести описанную в “Бхагавата Пуране” (Песнь 6, гл. 1) [4] историю брахмана Аджамилы. Там говорится, что в юности он изучал Веды и строго следовал всем предписаниям шастр, но впоследствии, связавшись с порочной женщиной, сошел с духовного пути и стал заниматься разнообразной греховной деятельностью. Когда он умирал, за ним пришли слуги Ямараджи, бога смерти, и в страхе он позвал своего маленького сына, имя которого было Нарайана. Это напомнило ему об изначальном Нараяне, Господе Вишну. Хотя Аджамила повторил святое имя Господа неосознанно, перед ним тут же предстали посланцы Вишну. Слушая спор между ними и слугами Ямараджа, Аджамила осознал благотворность и могущество преданного служения Верховному Господу.
В контексте этой истории уместно привести комментарий Баладевы Видьябхушаны к “Веданта-сутре” (2. 1. 36): “То, что Господь, любящий Своих преданных, принимает их сторону, является ни чем иным как пристрастием. [Однако] это логично и оправдано. [Например, это видно,] когда Господь защищает Своего преданного, ибо Он принимает во внимание бхакти, которое суть проявление энергии, присущей природе [души] (сварупе) “.
Важный методологический и также этический вывод, содержащийся в учении бхакти, состоит в том, что результаты преданного служения Верховному Господу не могут быть уничтожены действием времени. Подчеркивается, что если человек, вставший на путь бхакти, временно прерывает свою практику или вынужден вновь принять рождение в материальном мире, то в будущем он продолжит свое дальнейшее духовное развитие с того уровня, на котором закончил в предыдущей жизни (Б. г. 2. 40, 6. 40 - 44, 9. 22). Действие этого принципа также ярко видно из приведенной выше истории об Аджамиле.
Одна из важных методологических особенностей традиции вайшнавизма проявляется в ее существенно динамическом подходе к духовной практике, в котором в качестве критерия прогресса рассматривается изменение мотивации живого существа, усиление его желания совершать преданное служение Верховной Личности Бога и интенсивность этого служения. Эти выводы непосредственно связаны с этическим учением вайшнавизма.
Заключение
Следует обратить внимание, что в ряде своих положений, касающихся, главным образом, структуры понятия причинности и свободы (выделение четырех причин: формальной, материальной, действенной и целевой; формальная и положительная свобода), выводы целого ряда западных философских систем (см., например, [12], с. 531 - 585) близки заключению теистических школ веданты.
В заключении сформулируем основные выводы, полученные в настоящей работе при анализе принципа причинности и понятия свободы в теистических учениях веданты:
1. свобода понимается, в первую очередь, как онтологическая категория, атрибут Абсолютной Истины, в ее высшем аспекте как Верховной Личности Бога, и живых существ;
2. основанием принципа причинности является свободная воля Верховной Личности Бога, и живых существ, пропорционально их онтологическому статусу;
3. содержание и структура принципа причинности и свободы могут быть раскрыты через определение понятия времени, что позволяет провести классификацию различных уровней освобождения и проанализировать отличия между подходами теистических школ веданты и адвайта-веданты к понятию освобождения;
4. принцип причинности в учении ачинтйа-бхедабхеда (Чайтанья, Джива Госвами, Баладева Видйабхушана), непостижимого одновременного единства и различия Верховного Господа и Его энергий, раскрывается через понятие шакти-паринама, рассматривающей Верховного Господа, как источника всех энергий, и трансформацию Его разнообразных энергий;
5. учение бхакти гаудия-вайшнавизма можно рассматривать как учение о конкретной свободе, соответствующее сиддханте (основным выводам) учения Веданты.
Полученные выводы позволяют обратить более пристальное внимание на учение веданты не как на преимущественно спекулятивное ([5] с. 20), но именно как на конкретное учение о Верховном Господе и Его энергиях, и тесную связь его метафизической системы с основанной на ней живой традицией вайшнавизма.
Автор хотел бы поблагодарить М. В. Булгова и Д. В. Угая за полезное обсуждение работы.
Литература.
1. S. Dasgupta. A History of Indian Philosophy. In 5 vols. Cambridge. At The University Press.
2. А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. "Бхагавад-гита как она есть". М., 1986.
3. "The Vedanta-sutras of Badarayana with Commentary of Baladeva". trans. R. B. S. Chandra vasu. New Delhi.: Oriental reprint, 1979.
4. А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. "Шримад-Бхагаватам". Песни 1 - 6. М., 1990- 9.
5. С. Чаттерджи, Д. Датта. Индийская философия. М.: “Селена”, 1994.
6. A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. “Sri Caitanya-caritamrita”. Adi-lila. Ch. 7. BBT: 1975.
7. Сухотра Свами. Тень и реальность. М.: “Философская Книга”, 1998.
8. Дж. Клауснер // “Вайшнавизм: открытый форум”. 1997. N. 1. С. 91 - 99.
9. А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. "Ишопанишад". М.: ББТ, 1991.
10. А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. "Нектар преданности". М., 1991.
11. “Наше изначальное положение”. М.: ИСККОН ДВС Пресс, 1997.
12. Н. О. Лосский. “Свобода воли”// Избранное. М.,: “Правда”, 1991.
Панфилов Н. Н
.Концепция ишавасьи в ведической архитектуре
На протяжении двух последних столетий на Западе проявляется большой интерес к различным аспектам ведической культуры. При её изучении важное значение имеет широкий круг произведений, причисляемых к ведической литературе. Мудрецы Древней Индии призывали человека исследовать Абсолютную Истину - атхато брахма-джиджнаса (“Веданта-сутра”, 1. 1. 1) и не слишком привязываться к материальной природе. Сам факт получения материального тела они называли недостатком (доша), поскольку он связан с материальной обусловленностью своим телом (адхиатмика), другими живыми существами (адхибхаутика) и материальной природой (адхидайвика). Человека, погружённого в материальное существование, сравнивали с пловцом, оказавшимся посреди океана (“Бхагавата Пурана”. 4. 9. 11, 10. 14. 58) [1]. Предназначение ведической литературы состояло как раз в том, чтобы дать спасательный круг живым существам, тонущим в океане материального существования, и привести их к высшей цели жизни.
Заключение Вед (сиддханта) представлено в Упанишадах ([2], гл. 3). Одной из основных и древнейших Упанишад считается “Иша Упанишад”. В списке из 112-ти Упанишад, приведённом в “Муктика Упанишад”, она стоит на первом месте. (цит. по [2], с. 28). Согласно “Иша Упанишад”, процесс освобождения живого существа из ловушки материальной природы рассматривается как очищение его деятельности путём осознания своего конституционального положения по отношению к Абсолютной Истине, постигаемой как Верховная Личность Бога, Бхагаван, владеющий в полной мере всеми достояниями - красотой, силой, славой, богатством, знанием и отречением. (бхага - богатство, ван - обладатель):
“Всё живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому всё принадлежит. Всё время поступая таким образом, человек может желать прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. Иного пути для человека нет”
(Иша Упанишад. 1 - 2) [3].Таким образом, в первой мантре “Иша Упанишад” формулируется принцип богоцентрической концепции - ишавасьи
(Иша - Господом, авасьам - управляемое) и описывается деятельность, соответствующая этому принципу. Вторая мантра говорит о результатах следования этому принципу: обыкновенная материальная деятельность становится одной из форм карма-йоги, рекомендованной в “Бхагавад-гите” (18. 5 - 9), причём, даже если такая богоцентрическая деятельность остаётся незавершённой, она всё же является благом для того, кто занят ей, так как гарантирует ему человеческую форму жизни в следующем рождении. Следовательно, человек получает ещё один шанс улучшить своё положение на пути к освобождению из материального мира. Игнорирование данных положений ведёт к карма-бандхане - порабощающей деятельности. ([3], С. 23 - 33).Необходимо отметить последовательное развитие концепции ишавасьи в “Иша Упанишад” при рассмотрении различных аспектов материальной и духовной деятельности. Деятельность, совершаемая вопреки принципу ишавасьи, названа авидьей (невежество, отсутствие знания), и считается основной причиной материальной обусловленности живого существа. Концепция ишавасьи обосновывается определением онтологического статуса Верховного Господа (“Иша Упанишад”. Обращение, 4 - 6) и живых существ (“Иша Упанишад”. 6 - 7) [3]. Этот принцип подробно раскрывается в текстах 13 - 18, в которых также даётся понятие о бхакти-йоге, или деятельности живых существ, целью которой является удовлетворение Верховного Господа. (см.: “Бхагавад-гита”. 9. 26, 11. 54, 18. 55)[4].
Согласно традиции вишнуизма, или вайшнавизма, практика бхакти основана на двух составляющих: 1) слушание повествований о Верховной Личности Бога и прославление Его имени, формы, качеств и деяний (бхагавата-видхи); 2) поклонение Господу в форме Божества (мурти) в храме (панчаратрика-видхи). Правила и предписания панчаратрика-видхи изложены в “Панчаратрике” (в частности, “Нарада-панчаратра”) (см. “Бхагавата Пурана”, 4. 24. 45 - 46, ком.; 4. 27. 24, ком.) [1]. Итак, можно видеть, что храмовое поклонение в ведической культуре имеет глубокое философское обоснование.
Концепция вишнуизма основана на понимании Верховного Господа как источника всех энергий. Интересно рассмотрение сущности различных элементов материального проявления, приводимое в “Бхагавата Пуране” [1]. В частности, в тексте 3. 26. 46 указывается, что свойства земли проявляются при создании скульптурных изображений Верховного Брахмана. Из земли и её производных (камня, дерева, самоцветов) можно создавать различные формы Верховной Личности Бога, описанные в шастрах, которые являют Себя людям и становятся объектом поклонения. Другими словами, когда материя используется в духовной практике, когда имеется связь с причиной всех причин, то элемент земли, как один из материальных элементов, проявляет свой онтологический статус.
Известно, что в состав изобразительных искусств (или художеств) входят: архитектура (зодчество), скульптура (ваяние) и живопись. Изучая традиционную иерархию пространственных искусств в индийских трактатах, нетрудно видеть, что архитектура и скульптура взаимосвязаны. Скульптура Индии была преимущественно культовой. Первым и основным её назначением было создание изображений Божества для почитания, вторым (главным образом рельефа) - украшение архитектуры. Живописи отводилось последнее место, она считается зависимой от архитектуры. В отличие от скульптуры, её роль в ритуале была невелика. ([5],С. 293 - 361).
Остановимся более подробно на храмовой архитектуре и также рассмотрим отдельные элементы культовой скульптуры Индии. В “Бхагавата Пуране” (3. 12. 38) говорится, что Брахма, создавая вселенную, сотворил также архитектуру (стхапатьям). В ведическом обществе архитектура рассматривалась как традиционное знание, основанное на ведической литературе. Архитектура, наряду с музыкой, медициной, воинским искусством, составляла область знания, называемую упаведой (дополнением к Ведам). В частности, знание об архитектуре излагалось в “Стхапатья-веде”, относящейся к “Атхарва-веде”. Роль этих писаний состояла в том, что они давали как духовные принципы, на которых основывалось искусство возведения храмов, так и методы сооружения инженерных конструкций. Также они содержали систему эстетических ценностей.
Предназначение искусства в ведическом обществе состояло в прославлении Верховного Господа через разнообразную деятельность. Основной принцип культовой архитектуры заключался в том, что истинным владельцем храма считался Верховный Господь, проявлявшийся в форме Божества, и все принципы архитектуры основывались на учёте различных видов служения Божеству (воспевание имен Господа, приготовление и раздача освящённой пищи, изучение Писаний). Храм имел двойную природу: дом Божества и специфически культовое сооружение. Этот принцип проявлялся в том, что храм имел два вида модулей ([5], С. 310 - 311). Первый вид - собственно архитектурный модуль, представлявший внешнюю ширину храма. Все основные горизонтальные и вертикальные пропорции соотносились с этим модулем. Второй тип модуля основывался на мере главного культового предмета - скульптурного изображения Божества. Основные очертания храма рассчитывали по датам явления личностей, выступающих в качестве главных Божеств храма, на основе астрологических вычислений и математических формул. Это определяло ритм атмосферы храма.
Рассматривая особенности ведической архитектуры, отметим, что в ней существенную роль играет понятие янтры (пространственная форма, графический символ), на которую следует медитировать для того, чтобы составить тонкий мысленный план храма. С помощью такой медитации архитектор мог начать понимать правильное направление в разработке архитектуры храма. Сам по себе храм представляет собой трёхмерную янтру. Иными словами, его тонкий план должен был восприниматься в трёхмерном пространстве. Можно выделить четыре уровня покрытия храма ([6], С. 36): 1) чисто духовный; 2) субкультурный уровень, который вытекает из положений, изложенных в шастрах; 3) психологический уровень, определяет тот эффект, который будет оказывать храм на людей; 4) физический, или механический уровень. Эти принципы могут быть также применены и в отношении зданий, используемых для образовательных целей, но особенно это важно при строительстве храмов.
В вертикальном направлении структура храма соответствовала структуре вселенной. В горизонтальном направлении храм представлял собой мандалу, то есть геометрическое отображение на двумерной плоскости многомерного пространства, духовного неба, циклического движения времени. Основными конструктивными элементами храма были цоколь - адхиштхана, святилище – гарбхагриха и надстройка – шикхара. ([5], С. 310). Цоколь храма символически выступал в роли алтаря, на котором сам храм как бы приносился в жертву Божеству. Об этом свидетельствует и название верхней части цоколя (веди или ведика). Характерно также, что во многих текстах при модульной характеристике пропорций храма мера цоколя в расчёт не принимается, то есть храм мыслился как структурное целое, покоящееся на алтаре.
Характерно высказывание Падасевана даса ([7], С. 42 - 43), специалиста в области традиционной ведической архитектуры: “Ведические Писания представляют абсолютный стандарт красоты. Вкус обусловленной души в сфере изящных искусств и эстетики определяется гунами (модусами – Н. П.) природы, под влиянием которых она находится. Для того, чтобы понять, что такое настоящая красота и почему что-то считается красивым, мы должны обратиться к мудрости Священных Писаний. Если храм построен в соответствии с принципами ведической философии, он будет очень удобным и необыкновенно красивым”.
Интересны упоминания о храмовом поклонении в традиционной литературе вишнуизма. “Бхагавата Пурана” (3. 1. 22 - 23) [1] описывает паломничество Видуры, совершённое им в начале Кали-юги. В тексте 22 приводятся названия одиннадцати святых мест на берегу реки Сарасвати, которые обошёл этот великий преданный. А текст 23 рассказывает о старинных храмах: “Кроме того, там было много других храмов, посвящённых различным формам Верховной Личности Бога Вишну. Все эти храмы, воздвигнутые великими мудрецами и полубогами, венчал главный символ Господа, напоминая людям об изначальной Личности Бога, Господе Кришне”. Комментируя данный стих в контексте традиции вайшнавизма, А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада отмечает следующие особенности ([1], 3. 1. 23, комм.): двиджа-девы (мудрецы, или люди, посвятившие себя духовному просвещению человеческого общества, лучшие среди дваждырождённых) и девы (жители высших планет, начиная от Луны и выше) заняты возведением храмов, где поклоняются Господу Вишну в Его различных образах. У Господа Вишну четыре руки, в каждой из которых Он держит какой-либо предмет – раковину (шанкха), диск (чакра), булаву (гада) и лотос (падма). Из этих четырёх атрибутов главным является чакра. У Господа Кришны, изначальной формы Вишну, только один атрибут – диск, поэтому иногда Его называют Чакри. Чакра Господа является символом Его власти над всем мирозданием. Чакра венчает все храмы Вишну для того, чтобы люди, издали увидев этот символ, тотчас вспомнили о Господе Кришне. Храмы строят высокими специально, чтобы их было видно издалека. Этот обычай, возникший задолго до того времени, которое зафиксировано в исторических хрониках, неукоснительно соблюдают в Индии при возведении храмов. В работе ([8], С. 198) также упоминается, что иногда к шпилю на крыше храма или к самой крыше
прикреплялся флаг Бога (юпа).Концепция ишавасьи особенно ярко проявляется в священных местах (дхамах), связанных с явлением и деяниями Верховного Господа и Его уполномоченных представителей. Фактически вся жизнь там связана со служением Верховному Господу. В таких местах памятование о Господе совершается естественно, поскольку люди постоянно слушают о Его деяниях и соприкасаются с духовной атмосферой, поддерживаемой святыми личностями. Одним из основных мест паломничества в традиции вайшнавизма является Пурушоттама-кшетра, расположенная в штате Орисса. Находящийся там священный город Пури знаменит на всю Индию своим огромным храмом Господа Джаганнатхи (джагад – вселенная, натха - повелитель), который всегда был главной святыней и средоточием жизни всего города (см. [9], с. 21). Храм, называемый Шри Мандир, стоит на возвышенности Нилгири (Синий холм). Самая высокая его каменная башня, увенчанная высоким шпилем, чакрой и флагом, видна на много миль вокруг. В строении, называемом Бхога Мандир, для Божеств каждый день готовится 54 блюда. Особое значение в поклонении Господу Джаганнатхе имеет ежегодная традиция шествия колесниц (Ратха-ятра). Аутентичность этой традиции основана на утверждениях Священных Писаний вайшнавизма и поддерживается многовековой практикой
. Смысл этой традиции состоит в том, чтобы живые существа получили непосредственную возможность восстановить свою связь с Изначальным Источником мироздания. Универсальность этой духовной традиции проявилась также в том, что праздник колесниц обрел свою почву и на Западе, благодаря усилиям А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, направленным на выполнение указаний его духовного учителя и предыдущих ачарьев.Чтобы проиллюстрировать многообразие традиций бхакти, упомянем о храмах Южной Индии, принадлежащих к Шри (Лакшми) сампрадайе. Здесь наибольшей известностью пользуются два храма “Вишну на Шеше” в Шри Рангаме (штат Тамилнад) и в Тривандраме (штат Керала) ([8], С. 204). Интересна история возведения храма Господа Ранганатхи (приблизительно 8 век). В общей сложности строительство заняло 60 лет. Внутренний зал храма, увенчанный высокой башней, окружали 7 концентрических стен. Весь культовый комплекс расположен на острове на реке Кавери. Так воплотилось горячее желание великого южно-индийского святого алвара по имени Тирумангаи и четырёх его учеников служить Верховному Господу. Подробно об этом повествуется в ([10], С. 69 - 73).
Часто бывает, что с момента замысла храма до его фактического создания проходит довольно много времени, иногда даже столетия. Строительство храма невозможно рассматривать отдельно от духовной практики. Поэтому создание храма также включает в себя определённую медитацию на указания Священных Писаний и святых личностей и практические усилия, связанные с выполнением этих указаний. В качестве примера рассмотрим проект строительства храма в Майапуре в городе Навадвипа. Этот город связан с явлением Шри Чаитаньи, учение которого (ачинтья-бхедабхеда) составляет основу бенгальского вайшнавизма, или гаудийа-вайшнавизма. Замысел строительства величественного храма на земле Навадвипы восходит к 16 веку, и предсказания его появления отмечаются в “Чаитанья-бхагавате”. Подобные предсказания были сделаны Шринивасом Ачарйей (16 век) и Бхактивинодой Тхакуром (1838 - 1914). В соответствии с этими предсказаниями храм должен был стать центром гаудия-вайшнавизма – (адбхута мандир) (Шри Нитьянанда). Сейчас этот проект начинает осуществляться в Навадвипа дхаме в районе Майапур благодаря А. Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде и его последователям в цепи ученической преемственности брахма-мадхва-гаудия сампрадайи. Особенность этого проекта состоит в том, что он предполагает строительство не просто выдающегося культового сооружения, по высоте сравнимого с собором Святого Петра в Риме, а по сложности, безусловно, превосходящим его, но уникального и не имеющего аналогов Ведического Планетария. Этот храм наряду с представлением о традиционных элементах культуры бхакти
(бхагавата-марг и панчаратрика-видхи) должен будет представить модель вселенной, соответствующую описаниям Вед. Согласно ведическим праедставлениям, мир делится на области, начиная от материальной и заканчивая высшей духовной сферой: Деви-дхама, Махеша-дхама, Хари-дхама, Голока-дхама. Основные элементы вселенной будут отображаться в виде различных частей здания. Подробно будет представлено строение материальной вселенной, включающей различные планетные системы. Это будет способствовать более зримому воплощению в конструкции храма концептуального порядка вселенной, в основе которого лежит иерархия живых существ, берущих своё начало из Верховной живой силы.В основе любой цивилизации лежат её представления о вселенной. Изначальным источником всех разнообразных проявлений искусства и культуры является взгляд людей на своё положение внутри космоса. Майяпурский планетарий предоставит своим посетителям уникальную возможность – понять тот взгляд на мир, из которого берёт своё начало ведическая культура. Таким образом, видна тенденция к актуализации статуса храма как центра традиционного образования. Такой подход также характерен как для всей традиции вайшнавизма, так, в частности, и для традиции бенгальского вайшнавизма, в которой знание о методе духовной практики (абхидхейя) основыванется на знании о Верховном Господе, Его энергиях и взаимоотношениях живых существ с Ним (самбандха).
Характерная особенность ведической культуры состоит в её органичности, глубокой связи отдельных элементов с целым. Эта связь двоякая: с одной стороны, элементы отражают изначальные духовные и философские принципы и, таким образом, напоминают о смысле и цели жизни; с другой стороны, само Целое проявляется в своих элементах и, таким образом, раскрывает Себя. В настоящей работе мы попытались раскрыть содержание этот принцип на примере связи ведической архитектуры с традиционным учением вайшнавизма. Как основной принцип, формирующий эту связь, был выделен принцип ишавасьи, богоцентрическая концепция, сформулированная в Упанишадах и Пуранах. Конкретная реализация принципа ишавасьи была проиллюстрирована на примере храмовой архитектуры в её духовном, философском, культовом и функциональном аспектах. Как одну из наиболее важных особенностей ведической культуры в её различных составляющих следует отметить феномен её удивительной жизнеспособности, что указывает на её глубокую связь с наиболее фундаментальными
принципами бытия.Литература
1. А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. “Шримад-Бхагаватам”, Песни 1 - 6. М.: ББТ, 1990 - 9.
2. S. Dasgupta. “A History of Indian Philosophy”. vol. 1. Cambridge, University Press, 1957.
3. А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. “Шри Ишопанишад”. М.: ББТ, 1990.
4. А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. “Бхагавад-гита как она есть”. М.: ББТ, 1986.
5. “Культура древней Индии”. Сост. и отв. ред. А. В. Герасимов. М.: Наука, 1975.
6. Проект “Восьмое чудо света” // “Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртанам”, 1997, №4 (26). С. 34 - 36.
7. “Адбхута мандир. “Удивительный храм”” // “Гауранга”, 1997, №1 - 2. С. 41 - 44.
8. Н. Р. Гусева. “Индуизм. История формирования. Культовая практика”. М.: Наука, 1977.
9. “История Господа Джаганнатхи” // “Гауранга”, 1997, №6 - 7. С. 21 - 23.
10. Наимишаранья дас. “Жизнь Рамануджачарьи”. М.: “Каумара пресс”, 1994.
Бурмистров С. Л
. (СПбГУ, философский ф-т)С. Радхакришнан: понятие интуиции и формирование
индийской философии
.Интуиции можно дать такое определение: она есть знание, “которое достигается путем прямого усмотрения (как бы прямо “дается” соответствующим объектом) и сознательно не обосновывается, не проверяется и не оценивается субъектом” (такое определение дает ей В. А. Лекторский в статье “Непосредственное знание” в Философском Энциклопедическом Словаре). Для данного исследования наиболее важен аспект именно “прямого усмотрения” данных об объекте, то есть получения их путем, минующим сознательные структуры.
С. Радхакришнан сделал понятие интуиции одним из основных в своей системе, а аспект внесознательности ее (если сознание понимать в узком смысле, как систему фиксированных смысловых структур) выделял как один из наиболее существенных.
“Философия в Индии носит преимущественно спиритуалистический характер”, писал С. Радхакришнан в “Индийской философии” (с. 12)
. Философия в Индии, по его убеждению, всегда была тесно и неразрывно связана с религией, и эта связь не нарушена и поныне, несмотря ни на какие внешние влияния. Индийскому уму было много интереснее и, главное, важнее исследовать глубины человеческой души, чем внешний мир и его законы, и религиозно-философская мысль развивалась в сторону все большего психологизма, что хорошо выражено в известном изречении: “Atmanam viddhi” - “Познай себя” (букв. душу, Атман). Этот философский девиз не только позволял мысли быть гибкой и не сковывать себя догмами, но прямо требовал этого, и как религия, так и философия всегда несли печать психологизма, свойственного индийскому мировоззрению. С развитием и укреплением этой тенденции развивались и расширялись и познания древних индийцев в структуре психической жизни, функциях различных слоев психики и т. д., причем реальность психическая была, по мнению С. Радхакришнана, “более реальной”, чем реальность внешнего вещного мира. Индийский мыслитель оценивает миры внутренний и внешний по-разному: внутренний единственно реален, и реален тем больше, чем меньше в нем внешнего, “объективного”; внешний же мир – лишь источник омрачений, страданий, причем иллюзорный; за объективным миром стоит нечто, что бесконечно его превосходит и по могуществу, и по ценностному статусу, и по степени реальности – Бог, который в полном соответствии с традицией веданты понимается как существо исключительно духовное, абсолютно свободное от всего материального.Высшая цель всякой религии – обеспечить связь человека с высшими силами, определяющими его жизнь в мире, что видно уже из самого слова religio, и об этом С. Радхакришнан не забывает никогда. Утверждая, что индийская философия всегда была спиритуалистична, он тем самым утверждает ее имманентную религиозность, ибо через очищение от всего материального и превращение в нечто чисто духовное индивид становится неотличимым (принципиально) от божества, т. е. фактически вступает в единение с ним, а это и есть цель религии. Многие религиозные философы предлагали и предлагают множество способов для достижения такого единения, но у всех этих способов есть недостаток – они требуют использования материи в качестве инструмента: такова, например (если брать лишь философию Индии), система миманса, предлагающая своим адептам метод совершения ритуалов; однако таковы же и системы, например, санкхьи или буддизма; буддийские вероучители учат своих последователей идти по пути интеллекта, с помощью интеллектуальных усилий разрушая все омрачения, препятствующие движению к нирване. Это не выход: “мысль имеет дело с противоположностью субъекта и объекта, а абсолютная реальность есть нечто такое, в чем эти антитезы уничтожаются”, - пишет С. Радхакришнан (с. 29). Интеллект также привязывает человека к материальному миру
. Единственным выходом считается такой способ взаимодействия с окружающим миром, при котором снимается противоположность субъекта и объекта, а сами эти понятия становятся бессмысленными. “Реальность можно постичь с помощью некоего чувства, или интуиции”.Это понимание структуры психики складывалось на протяжении многих веков. Изначально, до вторжения на Индостан и в первое время после его завоевания, индоарии, по мнению С. Радхакришнана, не нуждались в том, чтобы исследовать природу духа, поэтому в древнейших творениях индийской мысли невозможно найти свойственные позднейшим философским учениям строгие дефиниции, тонкие разграничения понятий, логические рассуждения и т. п. “Это, - пишет С. Радхакришнан, - была созидательная эпоха, характеризующаяся подлинной поэзией, когда чувства человеческие выливаются в песнопениях; в это время мы не находим следов жертвоприношений. Единственным приношением богам была молитва” (с. 52). Боги сами давали людям все необходимое, и тем оставалось только благодарить.
Впрочем, и здесь нашлось поле деятельности для разума. Богов было множество, и древние индоарии поневоле могли задаться вопросом о том, что объединяет их, кто из них сотворил мир и т. д., и благодаря этому получили импульс к развитию заложенные в Ригведе монотеистические тенденции, результатом которых стал известный гимн РВ X. 121, где содержится учение о “Золотом Зародыше” (Хираньягарбха), эволюционировавшем в наш обыденный мир.
Из изложенного видно, что роль интуиции – “прямого усмотрения” и познания объекта – оказывается решающей для дальнейшего развития индийской религии и философии уже на самом раннем этапе. Понятие о едином всевышнем боге, считает С. Радхакришнан, не вырабатывалось постепенно в процессе эволюции политеистических верований, а лишь шаг за шагом приоткрывалось ищущему уму – уму, который уже заранее знал, что именно надо искать. Абсолют действовал через многих богов (которые служили ему как бы масками), чтобы дать первобытному человеку понять, что есть в хаосе преходящих вещей и событий единый порядок, подчиняющийся единой же воле, причем воле благой и наделенной всеведением. Человек оказывается для С. Радхакришнана, таким образом, всего лишь объектом деятельности Абсолюта; разъединение с Богом губительно для человека, а чтобы избежать гибели, он должен создать связь с Ним. Создание этой связи, т. е. религии, и ее поддержание оказываются полностью зависящими от Бога; от человека зависит лишь не отрываться от Него, по мере своих сил поддерживая связь гимнами, ритуалами, восхвалениями Богу и т. п.
В свете вышеизложенного интуиция также оказывается происходящей не от человека, а от Бога. Это, образно говоря, голос божества, говорящий в человеческой душе. Не человек за многообразием феноменального бытия познает Бога, а Бог позволяет человеку Себя познавать. Границы человеческой свободы в данном случае представляются довольно узкими: либо прислушаться к интуиции и познать Абсолют (отнюдь не всецело, разумеется), либо проигнорировать ее и остаться в неведении; это – единственное, что зависит от человека.
В религиозном аспекте отношения человека и Бога выглядят так же, как и в гносеологическом: Бог предоставляет человеку возможность спастись, а тот волен только воспользоваться или не воспользоваться ею. Если же Бог не откроет Себя человеку, все его усилия найти убежище от страданий мира будут бесплодны.
Но явление Бога человеку послужило тем первотолчком, от которого начала развиваться собственная человеческая мысль, направленная на более полное познание божества. Эта тенденция получила дальнейшее развитие в Упанишадах.
Основная и наиболее известная деталь учения Упанишад (насколько можно говорить об “учении” относительно этого практически бессистемного собрания текстов) – положение о том, что “Атман есть Брахман”. Природа смертного на первый взгляд индивида объявляется тождественной природе высшей абсолютной реальности.
Понятие о первичной и высшей реальности (ekam sat), пишет С. Радхакришнан, было взято авторами Упанишад из ведийских гимнов, но в Упанишадах приближение к нему осуществляется посредством исследования природы личности. “В диалоге между учителем – Праджапати и учеником – Индрой, приведенном в Чхандогья-упанишаде, мы находим постепенное развитие определения я путем прохождения им четырех стадий: 1) телесного я, 2) эмпирического я, 3) трансцендентного я и 4) абсолютного я” (с. 128), и именно на последней стадии я открывает свою истинную природу: оно является неизменным, вечным, не подверженным страданиям, абсолютно свободным, всеблагим и т. д. Существенное свойство человеческого я на обыденном уровне состоит в том, что оно есть субъект, противоположный всему объектному. Эго в обыденном мире (по природе своей иллюзорном, ибо реален лишь Брахман, он же – Атман) обречено взаимодействовать с объектами, которые сковывают его с помощью привязанностей и заставляют страдать, однако лишь субъект-объектное деление позволяет обыденному эмпирическому эго существовать. В процессе существования наиболее важным компонентом личности оказывается интеллект, способный работать только при условии четкого разграничения субъекта и объекта. Спасение от страданий сансары через интеллектуальные усилия представляется в таком случае невозможным, и для достижения его приходится подняться над уровнем интеллекта с его субъект-объектным делением. “Мы, - пишет С. Радхакришнан, - должны отмести от нашего подлинного я все, что ему чуждо и что является отличным от я” (с. 129). Объекты отличны от я, но так как отмести объекты представляется невозможным, то остается отмести то, посредством чего индивид взаимодействует с ними – мысль, которая “имеет дело с отношениями и не может охватить безотносительного абсолюта” (с. 149). Однако в результате этого для индивида утрачивается всякий смысл даже в самих словах “истина”, “ложь”, “благо”, “зло” и т. п
., и он действительно оказывается как бы вне и выше сансары, его ничего не заботит, не печалит и не радует. Его личность приобретает те свойства, какие обычно приписываются Брахману (неизменность, неподверженность страданиям, блаженство и т. п.), и тогда возникает понимание того, что “Атман есть Брахман”.Итак, в Упанишадах понимание интуиции меняется. Теперь в интуитивном познании возрастает роль человека. Он уже не остается почти совершенно пассивным реципиентом даруемого ему откровения, но и сам пытается повыше приподнять завесу, скрывающую абсолютную истину; делает он это по-прежнему с сотериологическими целями. Процесс самоуглубления и саморефлексии приводит его к пониманию того, что абсолютную истину интеллектом не ухватить, и он для ее обретения начинает использовать внеинтеллектуальные средства. Только по достижении ее можно пустить в ход интеллект и попробовать осмыслить то, что было интуировано.
Именно это и происходило во времена, последовавшие за эпохой создания основных Упанишад. “Интуиция уступала место исследованию, религия – философии” (с. 234). Наиболее ярко данная тенденция проявилась в буддизме и джайнизме.
Основное внимание в обеих этих религиозно-философских системах уделяется проблеме мокши (спасения), решение которой можно найти лишь на путях нравственности. “Для достижения освобождения низшая материя должна быть подчинена высшему духу. Когда душа освобождается от груза, тянущего ее вниз, она поднимается к вершине вселенной, где пребывают освобожденные. Радикальное преобразование внутренней сущности человека – путь к свободе. Мораль необходима, чтобы вызвать переделку человеческой природы и воспрепятствовать образованию новой кармы” (с. 283). Существование Бога начинает считаться излишней гипотезой, и в обеих системах идея Бога отвергается
. (“Будьте сами себе светильниками!” - говорит Будда перед смертью). Акцент явно переносится с Бога на человека: для спасения важно уже не столько заслужить милость и одобрение богов, сколько изменить свою собственную природу так, чтобы превратиться в существо, абсолютно не подверженное страданиям. В джайнизме освобожденная душа становится всеблагой, чистой и свободной от материи и наслаждается блаженством в нирване, однако остается личностью, т. е. субъектом.Буддизм по пути рационализации древних откровений пошел гораздо дальше джайнизма: Будда полностью отверг понятие личности как чего-то вечного и неизменного. Если раньше, как говорит С. Радхакришнан, интуиция позволяла человеку видеть за всем многообразием мира единую личность – Брахмана, то теперь интерес к нему был утрачен. Более чем скептическое отношение Будды к метафизике показывает, что наиболее важным вопросом был для него вопрос спасения, которое можно было обрести только посредством нравственной жизни и медитации.
Интуиция, как видим, мало занимала первых буддистов и джайнов. Как говорил Будда, если человека ранили отравленной стрелой, тут уже не до вопросов, кто эту стрелу послал, из какой он страны, какого происхождения и т.п. – надо стрелу вынимать и вводить противоядие. Чтобы вырвать стрелу страдания, все средства были хороши, и интуиция тоже, конечно, могла помочь, но все же наилучшим средством в первоначальном буддизме и джайнизме считалась, полагает С. Радхакришнан, нравственная жизнь.
Что касается буддизма, С. Радхакришнан утверждает, что “ранний буддизм не представляет собой совершенно оригинального учения”. “Дух упанишад является жизненным источником буддизма”. “Оригинальность Гаутамы, - пишет С. Радхакришнан, - заключалась в том, как именно он усвоил, расширил, облагородил и систематизировал то, что уже хорошо было сказано другими” (с. 315). Бесспорно, что Будда испытывал влияние распространенных в его эпоху идей, в том числе идей, выраженных в Упанишадах, и многое заимствовал. Но представляется, что роль его не сводилась только к “усвоению, расширению, облагораживанию и систематизации”. Он глубоко переработал идеи Упанишад, равно как и те идеи, которые С. Радхакришнан объединяет под рубрикой “материализм” и которые не только отвергали авторитет Вед, но и вообще всю систему ценностей индийской культуры того времени (идеал спасения, например). Для авторов Упанишад интерес представляла прежде всего связь Атмана и Брахмана, выраженная в афоризме “Атман есть Брахман”, тогда как Будда окончательно переместил свое внимание на Атман (обнаружив ложность этого понятия), а вера в Брахмана оказалась сотериологически незначимой.
Однако наряду с этим рационалистическим течением в Индии существовало и другое течение, основные положения которого были выражены в “Бхагавад-гите”. О ее роли С. Радхакришнан говорит так: “Гита есть приложение идеала упанишад к новой ситуации, возникшей в эпоху Махабхараты. Приспосабливая идеализм упанишад к теистическому мышлению людей, Гита делает попытку вывести из философии упанишад свою религию. Она показывает, что созерцательный спиритуалистический идеализм упанишад дает место живой религии персонифицированного божества. Здесь абсолют упанишад выступает в форме, удовлетворяющей и умственным, и эмоциональным запросам человеческой природы” (с. 465). В этих словах кратко, но очень точно и полно суммируется роль “Бхагавад-гиты” в развитии индийской мысли. В частности, отмечено и отличие ее от учения Будды или Джины Махавиры, а также и от философии Упанишад: возникает поклонение живому личностному Богу как Абсолюту, чего нет ни в
джайнизме и буддизме, ни в религии Упанишад с ее абстрактным, безличным Брахманом. В “Бхагавад-гите” окончательно утверждается высокий аксиологический статус субъективности, ибо тезис о тождестве Атмана и Брахмана оказывается переосмыслен как тезис о тождестве двух личностей (в Упанишадах же это тождество понимается как тождество двух природ), и спасение может быть достигнуто освобождением Атмана от ограничений, налагаемых на него объектами. Для этого “Гита” предлагает три способа: джняна-марга (путь знания, мудрости), карма-марга (путь правильного поведения – деятельности без привязанности к ее плодам) и бхакти-марга (путь любви к Богу). Но все три пути предполагают в качестве своей основы “духовную интуицию” Бога, одновременно являющегося и личностным, и безличным.Понятие интуиции в европейской философии в общем является понятием гносеологическим: интуиция есть один из способов познания объективного мира. В индийской же философии она, по мнению С. Радхакришнана, является не только и даже не столько теоретико-познавательным понятием, сколько единственно истинным способом взаимодействия с истинной реальностью. Разум может быть полезен на том уровне, который Шанкара называл “вьявахарика-сатья” (относительная истина), - на уровне эмпирии, прагматики. Когда же речь заходит о познании истинной реальности безотносительно к чьим бы то ни было интересам, убеждениям, склонностям и т. п. – а познание ее есть спасение, т. е. это сфера не только гносеологии, он и религии – единственным способом этого познания-спасения оказывается интуиция. Как ни парадоксально, она наиболее тесно связана со сферой личных интересов и склонностей, так как именно она позволяет удовлетворить самую главную человеческую потребность – потребность в спасении.
Пахомов С. В.
(СПбГУ, филос. ф-т)Понятие майи и проблема истинной идентификации
в тантризме
Одним из основных признаков индуистского тантризма
является представление о биполярном характере Абсолютной реальности. В мировоззренческом плане тантризм – это монодуалистическое движение, выражающее положение неразрывного единства двух аспектов Парабрахмана, тождественных друг другу: один динамический, “женский”, энергетический; другой статичный, “мужской”, созерцательный. Символически и в культовых целях они выражаются как “Шива” и “Шакти”. В состоянии космической “ночи” (пралайя) их единство является совершенным, отрицающим любую дифференцированность. Это состояние запредельного блаженства; это чистая чайтанья, трансцендентное сознание, в которой еще отсутствуют и рефлексия, и самосознание. Когда начинается этап космического становления (сришти), в этом запредельном сознании происходит выделение “я” (ахам) как самосознания чайтаньи. Если чайтанья есть абсолютность Шивы, то “ахам” принадлежит Шакти. Но в реальности, поскольку Шакти и Шива неразделимы, ахам есть также и атрибут Шивы: через Шакти, выступающей в качестве своеобразного зеркала, Шива созерцает себя и постигает себя как высшее “я”. Это чистое “я” содержит в себе тенденцию к универсальности и всеохватности; “я” стремится к “не-я”. Это стремление порождает в “я” семя объективных форм (идам), потенциал будущего многообразия. Ключевая роль в развертывании космических потенций принадлежит майе.Хорошо известно, что майя понимается в шанкаровской интерпретации веданты как иллюзорное образование, лишенное истинной сущности и вместе с тем играющее роль “покрова”, набрасываемого на единственную реальность – Брахмана. Благодаря этому “покрову” вместо Брахмана мы зрим многоликую вселенную, мир различающихся форм, и не можем понять коренного несуществования этих форм. Именно так, с подачи Шанкары, майя обычно воспринимается и в ортодоксальной индуистской традиции, и в западной культуре. Итак, майя – иллюзия, ее на самом деле не существует, как не существует миражей в пустыне, какими бы очевидными они ни представлялись. Далее, майя с древних времен понимается также и как некая магическая сила, как чары, которыми, в частности, искусно владеют божественные существа и люди, достигшие определенных ступеней святости и мистических прозрений. Помимо этого, майя – также и обман, уловка, интрига, в том числе политическая, искусство, искусность, искушение. Для обыденного индийского сознания это символ всего изменчивого и эфемерного.
Существует, однако, и иной подход к истолкованию майи, согласно которому она не лишается своего онтологического статуса, оставаясь, впрочем, повинной в развитии сансары и в забвении человеком своего истинного “я”. Тантризм исходит из постулата о том, что из Божественного не может произойти нечто нереальное. Майя потому не менее реальна
, чем Шакти и Шива. Майя трактуется здесь как модус, форма вечной Парашакти, т. е. она рассматривается как майя-шакти. Сама Шакти наделена несколькими функциями, которые могут в каком-то смысле истолковываться как отдельные шакти, имеющие, однако, абсолютное значение, обладающие неограниченностью во времени и пространстве. Обычно их три (иччха – воля, джняна – знание, крийя – действие), иногда к ним добавляются (надстраиваются) еще две – чит, сознание и ананда, блаженство. Эти пять модусов Шакти (или модусов-шакти) существуют извечно, вне зависимости от процессов, протекающих с мирозданием. Точнее, они генерируют эти процессы, однако не напрямую, а опосредованно, через майю. Таким образом, модусы Шакти пребывают в “чистом” (пара) качестве, не будучи омрачены эмпиризмом. Не так в случае с майей. С вышеназванными модусами ее роднит пребывание в глубинах Шивы-Шакти. Даже в период космического растворения (пралайя) майя продолжает существовать, правда, в “семенной”, зачаточной форме. Майя вечна и обладает способностью генерировать сущности. Однако ее генеративная способность искажена уже по самой ее природе, которая в тантре понимается как ограничение. Майя способна творить, но эта способность выливается в порождение “духовных уродцев”; возможно, они иногда прекрасны с эмпирической точки зрения, однако sub speciae aeternitates плоды ее деятельности по меньшей мере двусмысленны. Ведь то, что творит майя, становится ограничением абсолютных характеристик остальных модусов Шакти: майя чинит препятствия их свободному, ничем не сдерживаемому и спонтанному развертыванию. Натыкаясь на эти препоны, абсолютные модусы Шакти, впрочем, не утрачивают своей динамичности, однако их динамика отныне определяется омрачением “чистоты” внеэмпирического движения, ибо майя, сама находясь вне эмпирии, содержит тем не менее потенции к проявлению и развитию ее. Майя становится некоей границей между “чистым” и “нечистым” бытием, и потому она вместе со своими производными (канчуки) именуется пара-апара, т. е. буквально “высшее-невысшее”. Таким образом, майя своей ограничивающей деятельностью вынуждает более чистые, более высокие аспекты-функции Шакти направлять свою динамику на процесс проявления мира. Тем самым и здесь очевиден низкий ценностный статус майи, которая, несмотря на свое онтологическое значение, на свою вечность, считается “виновной” в появлении мира. Благодаря майе происходит “утечка” божественной энергии на более низкие уровни: эволюция мира совпадает с инволюцией божественного духа. Однако не следует забывать, что ни одно действие Шакти, тем более Майя-Шакти, не может осуществиться без контроля со стороны статического аспекта Абсолюта, отождествляемого иногда с самим Абсолютом. Речь идет о Шиве, или Парашиве, Парамешваре. Являясь высшим Господом и верховным распорядителем судеб энергий и существ, именно он “санкционирует” начало креативного процесса, материальным источником которого в конечном счете тоже оказывается он. Это Шива, по собственному желанию, ограничивает себя, не имея иной мотивации для этого, помимо свободы космической “игры” (крида, или лила). Парашива играет с самим собой в некую над-космическую игру, правила которой понятны только ему. Одним из следствий (а, может быть, правил) этой “игры” и становится самоограничение им своей абсолютной мощи с последующей манифестацией универсума. Понятно, что “игра” Парашивы не может осуждаться в тантре; тем не менее очевидно ее полное совпадение с ограничительной деятельностью майи, которая, однако, трактуется в терминах катастрофы (“падения”). Эта двойственность, однако, снимается условием различия духовных уровней существ: то, что пашу, зависимый субъект, видит как обусловленное и многоликое, мукта, освобожденный, понимает как непостижимую и спонтанную игру Абсолютного.Майя выдвигает против каждого из модусов Шакти соответствующие разделяющие силы. Если рассматривать вселенную с точки зрения ее иерархической структуры, то она предстанет как совокупность 36 ступеней-таттв, от самой высокой (шива-таттва) до самой низшей, таттвы “земли” (притхиви). Вечность первой таттвы, которой соответствует чит-шакти, попадая в тиски майи, приобретает последовательность времени; вторая таттва (шакти-таттва), аналогичная ананда-шакти, теряет свой характер всепроникновения и оборачивается пространственным ограничением; третья таттва (садашива-таттва, идентичная иччхе) превращается в страстную привязанность; четвертая (ишвара-таттва, = джняна), утрачивает всезнание, становясь обычным знанием; наконец, пятая таттва (садвидья), выражающаяся и как крийя-шакти, трансформируется из всесильной и “чистой” деятельности в деятельность ограниченную. Сама майя конкретно не направлена ни на одну из высших таттв, хотя формально выделена как отдельная таттва. Таким образом, пять “чистых” абсолютных таттв утрачивают свою абсолютность благодаря шести (из которых одна
контролирует остальные пять) “чисто-нечистым” таттвам. Весь процесс, напомним, происходит в запредельной для обычного мира сфере; однако именно в этой сфере образуются пределы и ограничения, способствующие развитию и углублению дуалистических тенденций.В целом позиция тантры по отношению к майе довольно близка адвайтической, ибо она также воспринимает ее как источник образования многочисленных форм. Однако если веданта Шанкары постулирует принципиальную бессодержательность множественности, иллюзорность ее, тантра подчеркивает внутреннюю связь множества с единым на основе развития динамики Шакти в ее аспекте майи. Тем самым образ майи, с одной стороны, “демонизируется”, она отождествляется с глубинным невежеством (авидья), с другой, она понимается как необходимое звено в эволюции мироздания. В конечном счете без майи не было бы возможно никакого освобождения индивида, ею же и закабаленного. Ведь майя, пусть и опосредованно, идентична высшему уровню реальности. Как отмечает Г. Кавирадж, майя по своей сущности идентична чайтанье, т. е. высшему сознанию; хотя она и вызывает бесконечное разнообразие вещей, она нисколько не отклоняется от Первосущности
.Итак, процесс космогенеза есть процесс утраты “чистоты”, понятой в смысле абсолютного совершенства. Подобное совершенство включает в себя также и понятие полноты субъективности (пурнахамта). Ведь Абсолют, напомним, понимается в тантре как “я” (ахам), как сверхсознание, абсолютная субъективность. Процесс эволюции-эманации в таком случае может быть понят как зарождение, развитие и отделение от второго, самосознательного, аспекта этой субъективности вселенной как объекта (идам). Из-за развивающихся ограничений становится все более определенной разница между субъектом и объектом. Эта разница реальна, однако она формальна, несущественна с высшей точки зрения. Тем не менее для живых существ, прежде всего людей, она имеет столь большое значение, что становится источником страдания, скрывающего в себе, впрочем, тенденцию к освобождению. Функция майи в данном процессе состоит
в том, чтобы показать объект как отличный от субъекта, внутренне несовместимый с ним.Согласно школе пратьябхиджня, процесс эволюции совпадает с постепенным разворачиванием объектного начала. Если вначале объект отсутствует в субъекте даже как мысль и “семя”, то затем происходит его последовательное возрастание в субъекте, прорастание сквозь субъект и затмевание им этого субъекта. Субъект при этом остается совершенно без изменений; все изменения происходят на основе объективации и только через появление объективных форм. Наконец, субъект затмевается настолько, что вместо него в качестве истинного “я” возникает такое “я”, которое заимствует всю свою структуру от объектности. Окончательно это происходит при образовании физического тела индивида. Иначе говоря, не остается ничего, кроме объективности, и даже начало, отвечающее за интеллект, чувства и т. п., выстраивается по образу и подобию объектности. Вместо истинного “ахам”, в частности, на передний план выходит “ахамкара”, ответственная за ложное отождествление. Человек может говорить о себе “я”, однако его “я” суть следствие тех влияний, которые оказывает на него внешний мир. Субъект отождествляет себя как с внешними формами, так и с теми внутренними, которые заимствованы из внешнего и ограниченного. Скажем,
он может расценивать себя как принадлежащего к определенной касте, религии, социальной группе, отождествить себя с “мужем”, “женщиной”, “хорошим человеком”, “человеком с характером” и т. п. Все эти идентификации, охватывая только некоторые из граней человеческого существа, являются только относительными, частичными истинами; они никоим образом не могут передать абсолютную истину – единение с Шивой. Потому в целом они ложны. Все это чужие и условные личины, заимствованные из объектных форм; они связывают человека, делают его пашу, буквально “животным”.Наступает полный расцвет материальной стихии. Здесь царствует уже даже и не майя-шакти, которая оперирует в более тонких мирах, а джада-шакти, материальная, “грубая” сила инертности. Новообращенный “субъект” прочно забывает истинного Субъекта и тем самым обрекает себя на пучину трансмиграций. Подобный субъект, как порождение материи, изменчив и невечен. И все же, несмотря на всю глубину своего падения, в котором, помимо собственных кармических деяний ограниченного субъекта, повинны также изначальное, первичное самоограничение Абсолютного (самкоча) и вторичное ограничение с помощью майи, субъект-2 способен вернуть себе утраченное величие, вновь стать субъектом-1, “пробудившись” до этого состояния. Ведь под толщей объектности и лже-субъектности продолжает существовать и здравствовать бессмертный дух, частица Шивы, до поры до времени пребывающий в состоянии духовной спячки. Спячка может быть прервана благодаря “нисхождению Шакти” (шактипата), которое осуществляется при посвящении ученика (дикша) в соответствующую тантрическую традицию. Шактипата есть такое духовное истечение, которое преображает все естество посвящаемого индивида. Это истечение - не что иное, как одна из основополагающих функций Шивы, а именно ануграха (букв. “милость”). Шива вечно и непрерывно посылает благодатные потоки своей духовной помощи; однако ограниченные существа не способны
воспринять эти потоки из-за своего несовершенства. Вечная ануграха – это абсолютный сверхкосмический процесс; когда она преломляется в конкретных реалиях отношений между учителем и учеником, точнее, при инициации последнего в традицию, происходит то, что выше было названо шактипатой. Учитель для ученика выступает как воплощенное божество, без него ученик совершенно не сможет самостоятельно уловить божественную милость. Не случайно в тантрах столь часто говорится о возвышенном статусе наставника. Когда через мастера до ученика доходит благодатная энергия, в ученике начинается определенное духовное взросление. Это взросление есть процесс возвращения к первоисточнику бытия, процесс ассимиляции энергий. Среди прочего, человек начинает “припоминать” свое истинное “я”. Это подлинное “я” не может зависеть от чего-либо внешнего, оно исключает любую материальность как свою основу. Потому процесс возвратного движения к истоку есть процесс постепенной дематериализации. Напомним, что школа пратьябхиджня самим своим названием указывает на значимость “узнавания”. Причем “узнавание” можно представлять и как движение от известного к непостижимому, к тому, что превосходит наличную ситуацию; и как движение “вглубь” себя, к тому, что лежит в основе “неузнанности”. В обоих путях (условно их можно обозначить как “экстравертный” и “интровертный”) многочисленные ложные “я” исчезают, заменяясь истинным, непоколебимым “я”, когда человек может твердо сказать о себе: “Я – Шива” (сохам). Это значит не столько то, что он теперь Шива во плоти, сколько то, что он перестает отождествлять себя с внешним по отношению к себе (и с внутренним, заимствованным от внешнего). Феномен “узнавания”, естественно, предполагает предшествовавшее ему “забвение” своей изначальной сущности. Это “забвение” может случиться только благодаря самому Шиве. Только Шива имеет достаточную силу для того, чтобы отказаться от себя, забыть себя; без этого забвения, однако, не произошло бы никакой вселенской манифестации. Парадоксальным образом забвение Шивой самого себя помогает впоследствии ограниченному субъекту вспомнить о былом своем великолепии и тем самым устремиться за пределы ограничений. П. Мюллер-Ортега в предисловии к изданию Пратьябхиджня-хридайе пишет, что осознавание себя Шивой “.. это больше, чем память. Это синтетическая деятельность сознания, которая создает новый, свободный образ целостности”.Если майя с точки зрения развертывания космического процесса являет собой “покров”, набрасываемый на абсолютные совершенства, то на уровне живого существа она имеет значение “оков” (паша), “омрачения” (мала). В этом случае она является одним (вторым по счету) из трех препятствий, которые должен преодолеть ищущий на пути к окончательной свободе. Это то омрачение, благодаря которому формируется аппарат тонкого тела индивида, еще больше, чем предыдущая мала (ану-мала, первичное самоограничение Абсолютного) укрепляющая его в непонимании истины. Как говорится в Шаттримшаттаттве-сандохе, “майя есть чувство различия во всех дживах, происходящих из я
”. Третья мала, карма, окончательно закрепляет и связывает индивида в мировом круговороте.Излишне отмечать, что “припоминание”, или “узнавание”, есть не просто некое отвлеченное познание, но по существу своему познание сотериологическое. Это знание, сопоставимое с “гнозисом” многих мистических традиций
. Процесс, ведущий к мгновенной вспышке узнавания, достаточно длителен, он требует долгих усилий. Адепт вспоминает себя как бы по частям, при этом отчуждая от себя определенные уровни материи, освобождаясь от того, что не является им по сути. С другой стороны, отчуждение означает “вбирание” в себя всего того, что не является “я”. Идам плавно перетекает в ахам. Вершина духовного пути – окончательная идентификация с “я” и окончательное же исчезновение “не-я”. Вселенная перестает существовать для отдельно взятого садхаки. Перестает существовать и вселенская ограниченность майи: в каждой форме; в каждом пределе и ограничении взор адепта научается различать космическую “игру”, исполненную смысла божественного присутствия.Процесс освобождения обратно симметричен процессу эволюционного развертывания. В случае эволюции движение энергий нисходящее, направленное на высвобождение материальности. Свобода материи устраивается ценой потери свободы духа, который затаивается в материальном. В случае духовного роста движение восходящее, здесь дух высвобождается, а материя, наоборот, все больше нивелируется. Кроме того, эволюция по своему характеру макрокосмична, а процесс спасения сугубо индивидуален, микрокосмичен – но парадоксальным образом чем больший наблюдается рост, тем меньше остается индивидуального. Индивидуальный дух вливается в высший дух Шивы (Шакти) и тонет в нем.
Ольшевский А. П.
(СПб, “Панчамаведа”)Понятие пустоты (шуньяты) как объект тантрической
садханы в индийской (хинду) религиозной традиции
Концепция Пустоты является высшей точкой развития “апофатической” части индийской теологии. Истинная природа Абсолюта не имеет определения. Она есть “то, что для шуньявадинов (последователей Шуньявады, буддистов) — Шунья; то, что для познающих Брахмана — Брахман” (Аннапурна-упанишад 3.19).
Никакие относительные понятия (качества, признаки, атрибуты и др.) не могут выразить реальную природу Брахмана, как тишина не может быть выражена с помощью слов. Поэтому Пустота является наиболее полным выражением единой безграничной Реальности или Брахмана (подобно тому, как ноль является суммой бесконечного ряда положительных и отрицательных чисел). В Чандраджняна-тантре говорится: “Низ, верх и все направления пространства, земля, вода и огонь, ветер, эфир, ум (манас), разум (буддхи
), аханкара (“творец личности”, эго) — все эти качества есть Шунья, не имеющая опоры и в которой пребывает всё”.Согласно Ануттара-бхаттараке (одной из бхайрава-агам кашмирского тантрического шиваизма), “это есть место (стхана), где отсутствует стремление к познанию, где обитает Пречистый Бог, свободный от ухода и возвращения, лишенный опоры, лишённый стремления к действию, сам Шива, природой которого является Пустота”.
В Пратьябхиджня-хридае сказано, что “ изначально Парама-шива существует как Анашрита-шива (Шива, “не имеющий пристанища”), природа которого — Абсолютная Пустота (шунья-атишунья), нераздельная с его сиянием”.
Согласно Лингарчана-тантре, “Дэва Садашива не имеет органов чувств (индрия-рахита) и имеет форму пустоты (шунья-рупа)”.
Шунья
есть неизменная непроявленная (авьякта) природа Шивы и изначальный источник всего.В Вимарша-дипике (комментарии Ачарьи Шивопадхьяи к Виджнянабхайрава-тантре) сказано: “То свободное и полное, называемое Шивой, есть обитель Пустоты (шунья-дхама), где исчезают все элементы (таттва) и откуда они возникают ”.
“Не существует того, что не там (в Пустоте), не существует того, что не есть то. Внутри и снаружи неё не существует чего-либо иного”.
В писаниях Шакты Пустота описывается как высшее местопребывание Дэви (Богини, персонифицирующей Шакти). В Тара-упанишад Дэви (Тара) говорит: “Шунья — моя асана (сидение, трон)”. Согласно Тара-рахасье (патала 1), местопребыванием Богини являются пять пустот (панча-шунья), в которых она создаёт, сохраняет и разрушает Вселенную. Говорится, что “в пятой шунье Махадэви (Тара) в форме Шивы, Трёхглазая, приводит Вселенную к уничтожению” (1. 25).
В шестой шунье пребывает Брахман, состоящий из Пустоты, который есть Вселенная и Владыка Вселенной” (1. 27).
Тёмный (чёрный или тёмно-синий) образ богини (Кали и Тары) символизирует разрушительную силу времени и неизменный процесс всеобщей энтропии. Шива говорит Богине: “Форма Брахмана, которая есть высшее блаженство, это Высшая Тарини (Богиня Тара). В ней растворяется всё. Эта форма — Вселенная. Так, о Богиня, Великая Дакшина-Кали (главная форма Кали) пребывает повсюду, пронизывая Великую Пустоту
(махашунья), имеющую чёрный образ” (Шактисангама-тантра, Кали-кханда 2. 42).В психологическом аспекте Шунья означает абсолютную чистоту, бесстрастие и невозмутимость безличного сознания, а также нереальность личности субъекта.
С точки зрения веданты
(адвайты) существование субъекта нереально вследствие неделимости Абсолюта.Иллюзия существования субъекта представляет индивидуальную точку зрения относительно реальности. Сам субъект — пустое место, занимаемое то одним, то другим потоком состояний и мыслеформ. “Всё это — тело, индрии и другие (элементы личности), созданы неведением. Таким образом неистинное (асатья) функционирует подобно истинному” (Анубхава-сутра 5. 25).
Истинная природа Атмана свободна от всех состояний. “Анавастха (отсутствие состояния) — его форма, которая есть только бытие (сатта-матра), недоступное пониманию ” (Куларнава-тантра
9. 7).“Другие (Шанкара имеет в виду буддистов) называют его Пустотой” (Брахма-сутра-бхашья
1. 1. 1).В высшем значении каждое индивидуальное “я” (ахам) есть сам Брахман (ошибочно отождествляемый с упадхи), имеющий природу единства Шивы и Шакти.
Согласно тантрической этимологии, слово “ахам” означает единство Сознания и Энергии или Шивы и Шакти. Слог “А” означает Шиву, “Ха” означает Шакти, “М” — единство обоих. “Слоги “А” и “Ха” (представляющие первую и последнюю буквы санскритского алфавита) — это Шива и Шакти, имеющие формы Пустоты (шунья-акара), соединённые друг с другом в форме сияния духовной вибрации, которое в упанишадах называется Высшим Брахманом” (Варивасья-рахасья, шлока
69).Поэтому “Высший Атман (параматман) есть Пустота (шунья
)”. (Джнянасанкалини-тантра, шлока 33).Пустота сознания означает его наполненность только собой (чин-матрата). Поэтому пустота Атмана означает только отсутствие в нём внутреннего разделения. “Непустота (ашунья) называется пустотой (шунья
). Шунья называется абхавой (отсутствием психического существования). То, что обозначено как абхава, есть то, в чём бхавы (состояния, тенденции) становятся утраченными ”. (Сваччханда-тантра 4. 291).В комментарии Ачарьи Джаяратхи к Тантра
-алоке (1.33) говорится: “В высшем значении (парамартхатах) Шунья — это отсутствие всякой опоры (аламбана) на элементы, а также отсутствие всех признаков существования (индивидуальности) и источника аффектов (клеша), но не пустота ”.В “Гирлянде света” (Алока-мала), цитируемой в Спанда-прадипике (комментарии Утпаладэвы на Спанда-карику) сказано:
“То состояние (авастха), которое вследствие своей чистоты не создаёт затемняющих мыслительных процессов, непостижимое и несравненное, называется шуньятой ”.
Согласно Виджняна
-бхайраве (дхарана 108), Атман не подвержен никаким изменениям и не является познающим и действующим, “поэтому весь этот мир есть Пустота (атах шуньям идам джагат)”.Стабильность любого состояния является воображаемой. Единственным неизменным состоянием является отсутствие всех состояний или полная Пустота. Поэтому (согласно Чандраджняна
-тантре) “следует созерцать весь мир как Пустоту, созерцая которую медитирующий никогда не будет разрушен ”. В Виджняна-бхайрава-тантре (шлока 124) говорится: “То, что непостижимо, то, что невоспринимаемо (аграхья), то, что является пустотой (шунья) и лишено существования, следует созерцать как Бхайраву.”.Согласно Риджу-вимаршини (1. 74), “Бхайрава, определяемый как поддержание Вселенной, есть Владыка сознания ”. Поэтому высшая форма бхакти (преданности Богу) есть постоянная пустота ума. Внутренний смысл поклонения — чистота ума. Чистота в абсолютном смысле — это Пустота (Шуньята). Поэтому целью и средством поклонения является Пустота. Каждому ритуалу поклонения предшествует внешнее и внутреннее очищение. Мысленно растворив в себе грубые и тонкие элементы, садхака достигает необходимой ритуальной чистоты. “Совершив бхуташуддхи (“очищение элементов”, как указано выше) следует созерцать всё как Пустоту, а самого себя — незагрязнённым, лишённым качеств, чистым и наполненным Тарой” (Пхеткарини-тантра, гл. 11).
Чистота ума достигается посредством соединения ума с объектом поклонения. То, что почитается как ишта-линга или внешний объект поклонения, является объективизируемой частью пустого пространства, состоящего только из сознания (чинматра). Поэтому “Линга почитается вместе с Шуньей. С помощью этого дживатман (индивидуальное сознание) достигает чистоты” (Гаятри-тантра 1. 123).
Шива (в той же тантре) говорит Парвати: “О Махешани, без ньясы, а также без пранаямы, только поклонением Шунье всё становится чистым” (1. 232 - 233).
Это есть высшая жертва Брахману (брахма-яджня), в которой весь внешний мир исчезает, сливаясь с пустотой ума: “Познающий Брахмана (брахма-джняни) всегда должен совершать великое жертвоприношение (махаяджня) Брахману. Увидев ум с помощью ума подобно реке, впадающей в океан, все формы следует погрузить в Великую Пустоту” (Каулавали
-тантра, улласа 3).В Таттва
-вимаршини (тантрическом сочинении Амритананды) говорится, что преданно поклоняющийся должен совершать поклонение “в высшем пространстве (парама-акаша) Бинду, определяемом как Бытие, Сознание и Блаженство, свободном от мира иллюзии, неискаженном, безмятежном, безболезненном, непревосходимом (ануттара), чудесном, в чистейшем Высшем Сознании, в непревосходимой Великой Пустоте (нируттара-махашунье), в бесконечной Абсолютной Пустоте (шунья-шунья), в непредставимом с помощью понятий, обозначающих женский, мужской и средний род, не имеющем начала и конца, присутствующем в пяти состояниях (бодрствование, сон, сушупти, турия и турия-атита или сахаджа), лишенном всякого подобия (сарва-упамана-рахита), имеющем природу непосредственного переживания (анубхава) ясного света ”.Для ума, ограниченного склонностью к различным впечатлениям и аффектам, Пустота представляется безжизненной пугающей темнотой. Ум видит в Пустоте лишь собственные качества (поскольку ум не может видеть в ней ничего другого).
Ясное сознание видит Пустоту как чистый безграничный свет, полный высшего блаженства (ананда-мая). Поэтому Шунья постигается как бесконечное беспрепятственное сияние чистого духовного пространства (чид-акаша).
“Источник того огня, который возникает в состоянии, лишенном опоры, в Пустоте, следует постоянно созерцать. Именно это есть медитация йогинов
” (Брихат-тантра-сара, гл. 5).“Высшую Шунью, пустоту пустоты, чистейшую форму Пустоты, сияющую как миллионы солнц и лун, незагрязнённое высшее знание, созерцай в своём сердце как высший (духовный) Свет ” (Камадхену-тантра 11. 5 - 6).
“Следует беспрепятственно (авиродхатах) созерцать Великую Пустоту (махашунья), лишённую начала, конца и середины, сияющую, как миллионы солнц и миллионы лун. Совершая эту практику, садхака достигает цели садханы
” (Шамбхави-тантра 563 - 564).Когда ум исчезает в Пустоте (подобно тому, как звук исчезает в пространстве), остаётся только Сознание (самвит), сияющее во всей полноте. Поэтому говорится, что “совершив растворение ума в Великой Пустоте (маха-шунье
) йогин пребывает в абсолютной полноте” (Брихат-тантра-сара, гл. 5).Растворение ума происходит в центральной точке (бинду). Поскольку сознание связывает все восприятия, впечатления и тенденции, оно является центром, относительно которого они существуют.
Бинду
, который является центром возникновения ума, представляет начальную и конечную форму (рупа) индивидуализации. Согласно Вишвасара-тантре, “форму (рупа) следует знать как Бинду. Превосходящее форму (рупа-атита) — Ниранджана”.В индийских (хинду) тантрах Шива описывается как Ниранджана (незагрязнённый). Это — имя Шивы, которое означает чистое, вечно неизменное Сознание, пребывающее в полной пустоте. В Самаячара-тантре говорится: “Внутри Йони (треугольника) находится Шунья, внутри Шуньи — Ниранджана. Это следует знать как обитель Кулы (местопребывание Шакти Кундалини) и семя (биджа) всех бидж (однослоговых мантр) ”.
В теле каждого существа Шакти (Шабда-брахман) проявляет себя в форме Кундали (или Кундалини), высшей энергии Сознания. Местонахождение Кула-кундалини и её внутренняя природа — Пустота, сияющая внутри треугольника Йони. “Внутри треугольника, в Пустоте (шунье), сияющей как миллионы лун, пребывает Высшее Божество (пара-дэвата
) — Кундали, имеющая форму десяти миллионов молний ” (Гаятри-тантра 3. 46).“Внутри треугольника — Шунья, имеющая форму бинду, которая есть Высшая Кундалини
” (Каливиласа-тантра 22. 37).“Она (Кундали) сияет как миллионы лун, внутри неё — Шунья (м.р.), который есть Садашива. Во вместилище Шуньи пребывает Кали, дарующая освобождение” (Камадхену-тантра, гл. 3).
Шабда-брахман (Шакти) происходит из Пара-брахмана или Шуньи. Согласно Чандраджняна
-тантре, “из Шуньи проявляется Шакти, из Шакти возникли варны (санскритские буквы) ”.Проявленный (произносимый вслух или мысленно) звук, который является объектом практики сосредоточения, используется как средство соединения ума с беззвучным сознанием, пребывающем в безмолвии шуньяты.
Бхайрава говорит Шри-Дэви: “О Бхайрави, вследствие произнесения Пранавы (слога “Ом”) или других (бидж) и размышления о пустоте в конце (пранавы или другой биджи), с помощью высшей силы (парая шактья) постижения этой пустоты достигается Шуньята” (Виджняна-бхайрава, шлока 39).
В следующей (17-ой) дхаране (технике сосредоточения) этой тантры говорится: “Следует осознавать начало и окончание какой-либо буквы алфавита. Ставший пустым с помощью этой пустоты, ум становится имеющим форму пустоты”.
В практике познания устранение препятствий происходит по мере оставления упадхи (ограничивающие факторы), которые выступают как инструменты познания. В тантрической садхане это осознаётся как процесс растворения иллюзорной личности, в котором грубое растворяется в тонком, а тончайшее (сукшма-атисукшма) — в Пустоте.
Тончайшим психическим элементом является буддхи, субстанцией которого является тончайший космический элемент (акаша). Его тончайшей формой, выражающей тождество и единство (Буддхи и Атмана или Шакти и Шивы) является Бинду, проявленный как изначальная универсальная единица (матра) информации, в которой заключается единый смысл всех знаний. Поэтому “форма знания есть Бинду, который является телом самарасьи (однородности, единства) Шивы и Шакти” (Саубхагья
-судходая 1. 24).То, что лишено разделения, является неизменным. Согласно “Брихат-тантра-саре”, “неизменное (авьяя) — это Бинду
”.Воображаемый бинду имеет форму (сакара). Реальный бинду
— ниракара (бесформенный). Абсолютно конечное тождественно с абсолютно бесконечным (подобно крайней точке острия или угла). Форма бинду — условность, обозначающая направление мысли в процессе сосредоточения ума. Поэтому “В познании Ниргуны (бескачественного, Брахмана) форма бинду является средством достижения” (Нирвана-тантра 10. 32).“При растворении (ума) в созерцаемом бинду, внутри него постигается высшее состояние.” (Виджняна-бхайрава, дхарана 13
).При возвращении ума к состоянию неподвижности и однородности Бинду, может быть достигнуто непосредственное постижение Шуньяты. Поэтому (согласно Джняна
-саре) “ум, постоянно пребывающий в состоянии самарасьи, следует погрузить в Пустоту (манах шунье нивешайет)”. В практике медитации Шунья созерцается как безграничное неделимое пространство: сначала однородное, затем бескачественное. Согласно “Виджняна-бхайраве” (шлока 143) “дхьяна есть неподвижный разум (буддхи), не имеющий формы, лишенный опоры (нирашрая)”. Поэтому “дхьяна — это ум, пребывающий в пустоте (шунья-гатам)” (Джнянасанкалини-тантра, шлока 54).В Кауладжнянанирная-тантре (гл. 14) говорится: “Пусть он (садхака) не представляет (в своем уме) ни воду, о Богиня, ни огонь, ветер или акашу, низ, верх или середину, пребывая подобно куску дерева или камню, о Любимая! Когда у ума возникает состояние унмани (растворение ума в высшем объекте медитации), о Прекрасная (Сундари), и ум становится совсем пустым (шунья-шунья-манас), существует лишь состояние неподвижности (невозмутимости ума), лишенное мысли”. Это также означает созерцание бесформенного (ниракара), в котором происходит полное растворение ума. Дэви (Бхайрави) говорит Шиве (Анандабхайраве): “О Владыка, следует погрузить ум в бесформенное, тогда происходит великое растворение (махалая)” (Рудра-ямала, гл. 29).
Шива говорит Парвати: “Тот, чей ум лишен формы (ниракара), становится подобным бесформенному ” (Джнянасанкалини-тантра, шлока 30).
“Стоя, находясь во сне и передвигаясь следует созерцать Шунью днём и ночью. Тогда йогин, став состоящим из акаши (акаша-мая), растворяется в чид-акаше” (Шамбхави-тантра, шлока 454).
“Вследствие медитации на Пустоту он (медитирующий) становится Духом Пустоты (шуньятман), пронизывающим всё и вездесущим ” (Тантралока-вивека 1. 64).
“ “Лишённый страсти и других загрязнений, я есть внутренняя пустота (антах шунья) и свободен от вовлечённости в деятельность” — такое знание поистине освобождает от соединения и разделения” (Тантра
-алока 1. 33).Достижение состояния шуньяты не является выходом за пределы ограничений (вследствие их нереальности) или переходом в другое измерение (вследствие отсутствия каких-либо разделений). Вира-ямала говорит, что “переход существует для того, у кого есть представление о разграничении (мана-кальпана). В лишённом разграничений и подобном пустоте, для кого существует переход и куда он может перейти?”
Всякое познание существует относительно субъекта. Знание шуньяты лишёно познающего. “Вследствие отсутствия способности постижения у пустоты, кто и кем здесь постигается? Нет осознания пустоты пустотой, нет также и препятствия ” (Шива
-дришти 6. 84).Как собственная природа (свапрупа) сознания не может быть познаваемой с помощью внешних средств познания (восприятие, умозаключение и др.), так и природа шуньяты не может быть осознаваемой с помощью чего-либо, отличного от неё. Ограниченное сознание (ум, эго) не может познать что-либо меньшее или большее, чем ограниченное и конечное (познаваемое во времени и пространстве). Когда Шунья не освещена светом чистого Сознания (самвит-пракаша), она имеет образ темноты, в которой субъект (ум или эго) видит только собственные фантазии (кальпана), отождествляемые с реальностью. Пустота не препятствует свету и не может быть освещена подобно какому-либо объекту. Поэтому Шунья может быть осознаваемой только в самом сознании. Собственная природа сознания не может быть объектом познания относительно самого себя (иначе неизбежно бесконечно повторяющееся внутреннее разделение познаваемого и познающего).
В Гандхарва
-тантре (гл. 39) говорится, что “один лишь Атман освещает буддхи, индрии и другие (элементы личности), как светильник освещает кувшин и другие (предметы), но сам Атман не освещается ими ”. Для постижения Атмана не нужно ничего, кроме Атмана. Поэтому реальная природа сознания обнаруживает себя только в Пустоте: “Для вошедшего в недвойственную Шунью, там сияет Атман” (Виджняна-бхайрава, дхарана 64).Николаева М. В.
Намасмарана, или техника памятования имени,
в учении Шри Сатья Саи.
1. Пред-данности преданности: очевидность, вера, отношения с Богом.
“Повторяйте Имя, независимо от того, есть у вас вера или нет; Оно само будет создавать очевидность, на которой вера может быть построена”. Рассмотрение предмета становится возможным, когда затребована действительность предмета рассмотрения. Постижение задает определенный уровень действительности и постигаемое находится на нем: отыскивается или создается либо налично данный предмет, находящийся в мыслимом состоянии, либо средство опосредования предмета, находившегося до этого в необъективированных условиях существования. Очевидность не должна быть непосредственной. Она есть дальнейшая констатация субъектом установившихся отношений с объектом и является основанием веры: явное существование Господа создает веру в Его Присутствие. “Мы должны укреплять веру в атрибуты Бога, которого мы прославляем. Без веры - нет отношений с Господом”.
Действительность отношений с Господом и ее очевидность для человека, имеющего некоторое отношение к Господу, создается таким атрибутом, или качеством, Господа, который носит Его Имя. Имя - не атрибут, но модификация атрибута, поскольку сознание при обращении по Имени индивидуализировано: “Имя отождествляет неотождествимое посредством одного из его аспектов”. Но поскольку атрибут имеет простую определенность или не-определенность, Оно оставляет по обращении к Господу в сознании обращенного только ту же самую внеличностную простоту, свойственную данному атрибуту. Качеств всегда три: две противоположности и нечто непричастное принципу дихотомии. “Имя обозначает качество Господа, Его гуну; постоянное созерцание вызывает ту же самую гуну в ответ”. Чрезмерно усложненное Имя вызывает не столько сложный, сколько запоздалый ответ.
Созерцание Господа, направляемое Намасмараной, есть периодически обратимый процесс превращения указанной возможности рассмотрения (мышление человека) в предсказанную действительность предмета рассмотрения (бытие Бога); и оно есть самосозерцание в обоих значениях самости - созерцание собственного становления в процессе конституирования предмета, будь то развитие человека в Боге, или Бога в человеке. “Бхавы, или отношения, основаны на привязанности к Образу Бога. Они ограничивают постижение божественного и затрудняют ищущему превзойти границы Имени и Формы, которые являются иллюзорными.” Обращение к Господу как самодостаточный акт преодолевает обращение к представлению о Нем, тем не менее на духовном пути каждого человека единению с Господом предшествуют отношения с Ним.
Образуется та выделенность Господа во всем Его Присутствии, которая допускает осознанность реальности Личного Бога, ибо все вещи, - божественное претерпевает воплощение как предметность мышления, - “явлены лишь посредине”, а пустая форма рефлексии непроявленности объектов позволяет вступить в нее каждому отдельному движению мысли. В круговращении божественных гун, - а их “следует превосходить одну за другой”, - сама Намасмарана, как средоточие этих отношений, постепенно достигает самореализации: реальность созерцания уже не отличается от реальности объекта созерцания. “Когда вуаль майи постепенно утончается, человек обнаруживает Себя перед самим собой”.
Одно и то же отношение к Богу ведет к единению с Господом и препятствует ему. Мы остановимся на той грани, когда ведение преломляется в препятствие, и наполним разрыв содержанием всех отношений, заключенных между волей Бога и принятием ее человеком. Однако бывает созерцание и “созерцание”, - ибо функцию восприятия можно дифференцировать по многим параметрам. “Господь есть основа; мир есть основанное. Его Имя, которое привлекает человека, формируется чувством близости и его глубиной. Основание находится в нас самих”. Ограничим сферу нашего рассмотрения самодостаточностью мышления, поскольку для нас ближайшим подходом к предметности будет герменевтика понятия Намасмараны, - особой техники слияния с Господом. Созерцание самого созерцания в его собственном предмете мы предваряем созерцанием этого созерцания в качестве такового предмета.
2. Переход от суждения к мистерии - техника введения в тайну.
Когда говорится, что “Намасмарана придает стержень для мысли о Боге”, предполагается известным: включение мышления в герменевтический круг знаменуется той задержкой, что опредмеченность его рефлексии не окончательно сформирована в интуитивном акте нахождения предмета. Именно направленное извне, а не пребывающее внутри рассмотрение должно способствовать становлению предмета. Возникает неоднозначность: первоначальная возможность рассмотрения онтологически определенного предмета феноменологически только возможна. Значит, возможность рефлективна, - она сама по себе отвечает требованиям начала мышления, тогда как действительность предмета остается непосредственной при любой возможности созерцания. “Господь Сам будет направлять человека, где и как делать Намасмарану.”
В этом направлении функционально “необходимы два процесса: устранение препятствий и построение структуры”. Предмет-понятие “Намасмарана” намечен суждением, в котором выражено абстрактное отношение двух субъектов - “Памятование Имени”; предмет понятия “Намасмараны” есть конкретная интерсубъективная мистерия. В переходе от суждения к мистерии, - при погружении мышления в мыслимую реальность, - рассмотрение деятельности сознания по Памятованию Имени должно стать сперва Памятованием, потом Именем. Изначально оно растождествлено и с Памятованием, представляя собой приближение к суждению об Имени, а не Его повторение. Однако формально, в своей предназначенности оно соответствует преданности. Логическая связка суждения “Памятование есть Памятование Имени” коренится в более онтологической формулировке “Памятование Имени есть Имя”. Последним “есть” выражается не просто аспект существования, но целокупность “бытия-сознания-блаженства”. Субстанция окончательного Суждения-Мистерии, представленного мантрой Имени Господа, непосредственно передает и опосредованно поддерживает онтологическую связь человека с Богом. Предметом рассмотрения становится упрочение характерности связи посредством раскрытия смысла связки.
Памятование - это не весь человек, по крайней мере изначально: хотя Память Божия принадлежит к его сущности, она не сразу проникает его и не вполне выражает через него Свою существенность; Имя Господа не есть Сам Господь: Оно не вводит человека в Его Присутствие при первых же опытах повторения. Но Намасмарана объективно существует, будучи объектом обоих субъектов и принадлежа к их реальности. Она объективизирует воплощение Бога для человека и восхищение человека для Бога, где первое служит мерой инволюции, второе - эволюции. Сущность человека состоит в пред-данности Богу, то есть в преданности; а процесс Намасмараны осуществляет внешнюю рефлексию Милости вплоть до Ее собственного обнаружения. Течение этого процесса приближается к завершению посредством духовного делания. Такое делание не может быть всепоглощающим при его описании, поэтому осмысление с необходимостью абстрагируется; но оно не может быть всепоглощающим и без предписания, поэтому осмысление с необходимостью конкретизируется.
В выделенной области определения того, что есть “Памятование Имени”, делание и его исследование соотносительны. Исследование не столько сообщает о том, что мы делаем, сколько о том, что нам следует делать; делание не столько исполняет то, что мы исследуем в модусе долженствования, сколько восполняет то, что нам надлежит исследовать. Не требования разума к духу непомерны для него самого, но ведение разума в духе сокровенно, - долженствование является не законом, уравновешивающим соприкасающиеся стороны этих планов, но единящей самые планы любовью. Даже предварительный разговор о Памятовании Имени оказывается Намасмараной, а человек, вступивший в него, становится компетентным и самостоятельным в практике. Цель введения - придать вступлению определенное намерение: проникнуться идеей Намасмараны и вполне высказать суждение о “Памятовании Имени”, то есть полностью вспомнить Имя.
3. Хитросплетение Имени и Формы.
Сатья Саи говорит не просто об Имени Господа, но о сочетании Имени и Формы. Под Формой подразумевается не логическая форма, или понятие о Боге, но Образ и Подобие Господа, или Боговоплощение, - хотя для человека, пока он сам остается лишь образом, Форма не достигает полного уподобления Господу; равно как и Имя Господа еще не есть имя собственное для молящегося, так чтобы он мог сказать: “Не я живу, но живет во мне Христос!” Воспринятое нами понятие Намасмараны уточняется как “Памятование Имени и Формы”, хотя в пределе богореализации человек “уже не может описать свой опыт: он становится Одним с тем, что он хотел познать.” Соответственно, в конце концов вливаются друг в друга Имя и Форма.
Имя мы повторяем, постоянно вспоминаем; Форму мы помним, непрестанно вторим ей всем своим существом. Структурное различие аспектов нераздельного и неслиянного делания состоит в том, что Имя - наш призыв, и он дискретен; тогда как Форма - ответ нам, и он непрерывен. Дискретность Формы вторична, обусловлена связанностью Формы с известным Именем, - тем, которое используется для повторения на четках, а не тем, которое предвечно и прославлено, и непрерываемо колебаниями присутствия-отсутствия Формы, находящейся в воплощении или воображении. Но оба статуса Имени не изолированы, ведь “когда одно Имя и другое трутся вместе быстро и с нажимом, искра мудрости воспламеняет ум”. Значит, и Форма не теряет окончательно связи с самой собой, будучи связана не с тем Именем.
Связь Имени и Формы актуальна до выбора, поскольку Имя, приемлемое для Господа в ритуале, и Имя Самого Господа смыкаются друг с другом в Форме конкретного Боговоплощения. “Господь связан с Именем как Форма”. Мы не выбираем способ связывания Имени и Формы и даже не осознаем его; мы сразу выбираем их вместе. Подобный выбор не бывает свободным для тварного человека (в смысле самостоятельности не в предпочтении, а в получении той или иной информации), но он абсолютно свободен в перспективе богореализации. Человек освобождается по мере становления Богом, а “Божественное Имя присваивается существующей Реальности, часть которой он сам из себя и представляет”. Имя и Форма вводят его в Присутствие Господа и знаменуют Встречу с Ним. Однако характер внимания к Имени и Форме не одинаков, ибо внимание сконцентрировано на них вплоть до расщепления.
Различением внимания к Господу в самом себе определяется отличие способов сосредоточения, предшествующего созерцанию разнопланового объекта “Имя-Форма”. Концентрация на Имени осуществляется путем частого повторения, а концентрация на Форме - прямым памятованием, через непрерывное усилие к удержанию в сознании. Дискурсивная концентрация сама происходит в сфере рассмотрения концентрации объективной и рефлексии ее структуры. Наш выбор является обратной стороной богоизбранности, а не самостоятельным актом. Обожение человека не есть встречное боговоплощение; таким оно кажется, пока сознание не окончательно влилось в течение Намасмараны. Молитва, исходящая от человека, не считается совершенной молитвой; молитва же, достигающая Господа, доходит до Него по исполнении Его Воли и есть собственная рефлексия Милости, - Любовь Бога к Самому Себе.
Отдельное произнесение Имени Бога в глубине размеренного повторения не будет ни взыванием к Господу, ни готовым ответом, встроенным в слышимое призывание Господа, - а самим зовом Бога. Но таким оно будет; прикосновение же к Имени в первом испробовании Намасмараны налагает на человека статус “званого” и означает для него честь и место, которые он еще может принять или отвергнуть. Памятование Формы в глубине длительного прозревания станет явлением Бога Живого внутри человека. Но таким оно станет; прикосновение же к воплощенной Форме налагает на человека миссию “избранного”, которая заключается в исповедании веры, пока тело находится в тленном состоянии, - миссию тем более ответственную, чем более плотное из тел человека удостоилось касания Господа. Ибо “Бог непременно появляется перед человеком в той Форме и с тем Именем, которыми он наделил Его”.
4. Свобода и предопределенность выбора Имени и Формы.
Выбору Имени и Формы предшествует определенная дхарма - отчетливое осмысление человеком сферы своего влияния и ответственности в мире; ибо дхарма вообще, до всякой определенности, “прививает вкус к Имени и Форме Бога”. Этот вкус содержит в своей подоплеке догадку о полной власти человека над Богом и тончайший искус требовательности к Нему, исходящий из переживания влияний мира и опыта его ответности. Вероятной множественности дхарм соответствует представление не о многобожии, - ведь пантеизм знает понятие риты, структурного давления богов на людей, а не дхармы, особой предпочтительности Бога для человека, - но о неисчислимости Имен Бога, хотя “все Имена - Его”. Неуверенность поклонения закономерна.
Окончательный выбор - это акт смирения, предопределенный добровольным принятием кармы (долга прошлого, искупления) как дхармы (долга будущего, обетования), поскольку “следствие кармы может быть уничтожено только посредством кармы, а наилучшая и самая простая карма - Намасмарана”. Выбор есть пунктуальное, производимое в каждый момент осознание дхармы как дхармы, - действия не ради плодов возмещения или возмездия, но ради восполнения реальности божественного веления; такой выбор является полаганием цели дхармы в цельном акте именования Божественного, как “непересыхающего источника всякого блаженства”. Вкус к Имени означает такую интенцию, которая принимает на себя максимум новой информации о Боге, или энергии Его эманаций. Выбор Имени есть реализация этого вкуса, - практическое познание сути бытия как такового в отдельной дхармической опредмеченности.
Выбор Имени сочетается с выбором Формы: особый сплав Имени с Формой берется за основание собственного существования. “Остановка на Имени означает прекращение вращения в Пракрити”, или перебирания Имен, и выбор основного Имени, обнаруживающий имманентное основание бытия-сознания-блаженства. Сочетание Имени с Формой как облегчает фиксацию внимания на Божественном, так и затрудняет подобную однонаправленность ума. Всякая отдельно взятая Форма не только является вместе с Именем выражением вполне определенной Реальности, но и сама по себе имеет особое Имя. Она обладает некоторым количеством Имен, из которых только Личное Имя Оформленной Реальности не относится сразу к нескольким Формам беспредельной и совершенно неопределенной действительности. Таково главное “преимущество Намасмараны: когда произносится Имя, владелец Имени тотчас же появляется в поле зрения; когда размышляют о Форме, там может быть более, чем одно Имя”.
Имя останавливает вращение ума в Пракрити, отодвигает покрывало майи и “выбивает в уме пустоту” для принятия Шакти, - силы, с помощью которой осуществляется деятельность Формы, наделенной миссией. Форма Бога оказывается Формой пустого ума, занятого лишь богомыслием, обуславливая его способность придавать эту форму любому содержанию. Отсюда и многоименность Формы. Но Имя, первоначально вызвавшее к существованию данную Форму, остается в силе. “Следует всегда удерживать Имя Бога в дыхании. Тем самым будет вызываться Его Форма, как внутреннее ядро каждой вещи, мысли или оборота событий”. Повторение Имени становится способом многократного очищения Формы, поддержания ее неизменной в потоке безымянных событий. Имя называет Форму как таковую, наполненную светом и проводящую чистый свет. Произнесение Имени исконно предшествует появлению Формы; иначе мы нанизываем целую гирлянду из Имен Бога, описывающую максимально-феноменальные аспекты Его Бытия, ведь “Бог есть гармония всех Форм и Имен, которые человек дает Ему”.
5. Подступы к преодолению мышления.
Философская система замещается стратегией просветления. Техничный момент в повторении Имени состоит в том, что нужное движение внимания можно зафиксировать в режиме самовозобновления. Повторное смещение внимания в эту область находит оставленным не след осмысления, но сам шаг его. Концентрация - это не только интенциональность в горизонте сознания, но и усилие к его стягиванию или к перекрытию другим горизонтом. Можно оставить без присмотра сознание факта, находящееся в рабочем состоянии, и оно будет сопротивляться дезинформации, - или же определенное самосознание, и оно будет сопротивляться дезинтеграции. Сознание и самосознание, задействованные в Намасмаране, требуют разных подходов для установки внимания в поле их деятельности. И абсолютно неведомо ведет себя Богосознание.
Осмысление Божественной Идеи и ощущение Божественного Присутствия едины как проекции целостного Само-осмысления в Само-ощущении. “Наши имена - тоже Господни; а сами люди суть Его формы”. Видение есть овнешненное воображение, посредник между ощущением и осмыслением, и само по себе не имеет ничего общего с близостью к Богу: осуществляя связь идеи с вещью, оно способно связать и Имя с Формой. Непосредственность связи Имени и Формы в основании Намасмараны подразумевает развитую способность интуиции, но вмешательство Милости в конечном счете решает все. Ведь лишь по великой милости своей Господь дает даршан, где “звуки Имени обретают Форму”, и человеку больше “не приходится утверждать “Я есть То”, потому что у него не остается чувства самости”.
Видение координирует типы ментального внимания: сознательное при повторении Имени и самосознательное при памятовании Формы. Сознание безвозвратно направлено на объект как выражение Субъекта и нуждается во внешней корреляции. Сознание дискретно и требует для своего поддержания в структуре внимания правильного возобновления и подтверждения его истинности. Самосознание рефлективно и непрерывно; ему достаточно исходного установления Самого Субъекта Самоосознания. “Из постоянного контакта Имени и Того, кому принадлежит это Имя, вспыхивает огонь мудрости”. В противопоставлении Имя идеально, а Форма действительна. Но видение их обоих с неизбежностью устраняется, как и все, что встает между “я” и “Я”, разделяя возможное бытие и могущественное Бытие. Видение исключает внутренний диалог, но и само впоследствии исключается.
Сознание Имени служит каналом, связующим суть бытия человеком с сутью бытия Богом. Самосознание Формы выражает сокровенное единение человека с Самим Существом Бога. Мистерия даршана состоит в овнешнении несказанного, овнутряющем произносимое: риши в Рамаяне, посвятившие Намасмаране всю жизнь, совершали самосожжение, едва узрев Бога во плоти, ибо они обретали сознание целостности Тела Господа и решались снять последние ограничения. Форма Божественного в пределе есть Божественная Личность, поэтому самосознание изначально присуще созерцанию Формы.
Поскольку Имя мыслится дискурсивно, а Форма - интуитивно, их связь можно выразить иначе, расширив понятие речи до границы деления ума на подвижный и неподвижный. В Анугите говорится: “Вдохновляющее дыхание, становясь владыкою, изменяет сознание, которое не понимает слов, в иное состояние и раскрывает ум”. Сам Атман отвечает Речи: “Существуют два ума, подвижный и неподвижный; неподвижный находится при Мне, подвижный находится в твоем владении”. Повторение Имени осуществляется подвижным умом, а памятование Формы - неподвижным. Намасмарана оказывается способом пранаямы, или управления тем дыханием, которое славит Господа. Дальнейшее рассмотрение выходит за рамки философского контекста.
Библиография
1. Bhagavan Baba on Namasmarana. India: Prashanti Nilayam. 1994.
2. Бхагавадгита. М.: Наука. 1985.
3. Анугита. // Легенды о Кришне. М.: Одиссей. 1995.
Семёнов
А. Н. (РХГИ, отделение религиоведения)Восток и Запад: два образа исторического сознания
Всякий раз, когда речь заходит об истории, в сознании человека всплывают представления и образы, непосредственно связанные с культурной или научной традицией, принятой в его народе, регионе, части света. Человеку изначально было присуще то или иное восприятие объективного хода событий и времени, с ними связанного. Другое дело, что эти восприятия в значительной степени отличались от того, которое в современном западном сознании гордо именуется историческим и считается единственно возможным эталоном для анализа всего мирового исторического процесса. Без сомнения, то линейное ощущение времени, которое получил западный мир в результате усвоения христианской эсхатологии, дало возможность осмысливать мировую историю в глобальном, общечеловеческом масштабе. Однако всякая медаль имеет обратную сторону, и западная историческая наука, с её тяготением к хронологии и периодизации, с определённого момента начала выстраивать все мировые культуры “по ранжиру” европейского сознания. Условная, во многом искусственная схема самой европейской истории стала автоматически применяться ко всем остальным цивилизациям, создавая в их исторических континуумах периоды “древности”, “средневековья”, “возрождения” и т. п. Более того, постепенно в сознании западных мыслителей (особенно религиозно настроенных) начала укореняться идея о том, что такое глобальное осмысление хода мировой истории и есть единственно правильное её восприятие, в результате чего по отношению к другим цивилизациям в этом смысле стал применяться оценочный подход. Вот, например, что говорит Н.А. Бердяев: “Индусское сознание есть самое антиисторическое из всех сознаний мира, и судьба индусская есть самая не историческая из всех судеб. Всё, что было наиболее глубокого в Индии, не было связано с историей; там не было настоящей истории, не было настоящего исторического процесса...”. Совершенно очевидно, что историю, весь мировой исторический процесс Бердяев рассматривает только с точки зрения христианизированной западноевропейской парадигмы. Для него история - это на всех парах мчащееся к своему апокалипсическому концу всемирное время. Поэтому для него все народы, не участвующие в этой гонке, просто выпадают из истории: “И вот христианство переносит центр тяжести истории с Востока на Запад... Всемирная история окончательно переносится с Востока на Запад, и народы Востока, которые дали первые страницы истории человечества, создали первые великие культуры и были колыбелью всех культур и религий, как бы выпадают из всемирной истории. Восток делается всё более и более статичен. Динамическая сила истории целиком переносится на Запад. Те народы Востока, которые не принимают христианства, не входят в поток всемирной истории. Это ещё раз, опытным путём, подтверждает ту истину, что христианство является величайшей динамической силой и что те народы, которые окончательно уходят от христианства и не идут за христианством, перестают быть историческими народами”.
В этом довольно категорическом отрывке особый интерес вызывает так называемая динамическая сила христианства, о которой говорит Бердяев. В чём она, собственно, заключается? Представляется, что у европейских народов, если взять в пример Римскую империю или Александра Македонского, её было в избытке; поэтому она не может выступать в качестве военно-политической активности западного мира, тем более что в последних мировых войнах та же Япония или Турция играли немаловажную роль. В социально-культурном отношении античный мир опять-таки мало в чём уступает христианскому Западу, особенно если сопоставить периоды засилья средневековой инквизиции с лучшими образцами греческой или римской демократии. Значит, остаётся назвать только одно характерное качество западной цивилизации - её безусловный приоритет в продвижении научно-технической мысли человечества. Это как раз то, что позволило Западу в кратчайшие по историческим меркам сроки вырваться вперёд и в военно-политическом и в экономическом плане. Именно такой динамизм ныне и присущ христианизированным странам, которые и в социально-культурном, и в политическом, и экономическом отношениях стали диктовать моду практически всему миру. В связи с чем это произошло? Дело в том, что, с одной стороны, учение Августина Блаженного о восприятии времени наделило европейский мир ощущением приближающегося конца истории, а с другой стороны, идея о
свободе индивидуальной воли, исповедуемая христианством, предоставляла человеку и всему обществу право на выбор любого пути развития. Западное сознание, и так пропитанное традиционно рациональным прагматическим духом, как бы не выдержав мук ожидания Второго пришествия и связанного с ним Апокалипсиса, выработало в недрах своей философской мысли идеи просвещения, научного освоения природы и, соответственно, общемирового прогресса. Страх и ужас приближающегося Страшного Суда, который может наступить в любое мгновение, сменился оптимистическим чувством уверенности в необходимости создавать для себя максимально комфортные условия уже в этой жизни, не дожидаясь решения “высшей инстанции”. По сути, это были идеи построения рая на Земле своими руками, без помощи и вмешательства Бога, своеобразной проекцией которых явились всевозможные утопии новоевропейской философии. Таким образом, образовалось трагическое несоответствие между традиционной христианской идеологией с её эсхатологическим учением и практической деятельностью западного сознания с его идеей прогресса и поисками путей создания земного рая. Этот разрыв не дал возможности сформироваться традиции глубоко осмысленной практике духовно-религиозного созерцания, началом которой служили учения Экхарта и Бёме на Западе, а также идеи исихазма в православном христианстве. Лишённое, по сути, духовной опоры, западное сознание в своём линейном восприятии времени стало как бы “скользить” по горизонтали. Оно оглядывается назад и видит только прошедшее, оно всматривается вперёд, но не видит там ничего, кроме смутных тревог надвигающихся дней. В силу такого “поверхностного” бытия в горизонтальной плоскости времени, западное сознание стало лихорадочно обустраивать день сегодняшний с расчётом, хотя бы, на ближайшее будущее. Место Бога в душе западного человечества постепенно заняли наука и бизнес, сиюминутный практический интерес настоящего дня заменил в сознании заботы духа о вечности. Западное сознание постепенно секуляризовалось. Только в западной цивилизации с её прагматическим рациональным сознанием могли появиться и появились такие представления и высказывания, как “Время - деньги!”, “Живём только раз”, “После нас - хоть потоп”, “Кто успел - тот и съел” и т. д. При этом разум стал играть главенствующую роль не только в практической деятельности, но и в познании истины. С его помощью начали определять меру истинности религиозных учений. Вот что говорит по этому поводу русский религиозный философ Лев Тихомиров: “Наш разум вовсе не так бессилен, чтобы не дойти до истины. Конечно, действительным Откровением мы должны счесть такое, которое открывает нечто недоступное нам самостоятельно и при этом не делает в объяснении каких-либо явлений явных для нас ошибок, не обнаруживает признаков работы обыкновенного человеческого ума, а, напротив, обнаруживает признаки Ума сверхчеловеческого... Рассматривая с таким критерием те учения, которые разными народами и религиями считаются божественными откровениями, мы не находим среди них ни одного, имеющего признаки действительно божественного, кроме Откровения моисее-христианского...”. Далее он, основываясь на подобном критерии, сравнивает т. н. моисее-христианское Откровение с различными религиозными учениями, в том числе с “Законами Ману”. Сравнение получается, конечно же, не в пользу Ману: “…Какие же нелепости говорят нам эти “великие души” обо всём, чего не могли знать индусы во времена составления этих псевдооткровений! Ману Сваямбху, например, сообщает, будто бы мелкие насекомые, вроде блох, рождаются не из “утробы”, как млекопитающие, и не из яиц, как другие разряды животных, а “из тёплой влаги”. Но если таково первичное воззрение младенчествующего наблюдения природы, то мы теперь уже давно знаем эмбриологию насекомых. Для нас становится ясно уже из таких промахов, что Ману Сваямбху не творил мира и плоховато осведомлён о законах естества”. Из приведённого отрывка хорошо видно, в какую ловушку попадает европейский рационализм, когда пытается с “научной” точки зрения обсуждать категории религиозных истин. Ведь кроме эмбриологии насекомых европейская наука создала и зоологию, из которой хорошо известно, например, что заяц, вопреки двойному свидетельству того же Моисея, не является жвачным животным. Однако этого Тихомиров то ли не замечает, то ли молчаливо относит к разряду, как он сам выразился, “не явных для нас ошибок”… В этом случае хорошо просматривается однобокость и тенденциозность, характерные для западного способа мышления. Западное сознание как бы хромает на одну ногу, его логическому рациональному строю явно не хватает того, что имеет сознание Востока, а именно духа.Об этой дихотомии общечеловеческого сознания сказано и написано уже немало. Запад, как своеобразное отображение Логоса, всегда противопоставлялся Востоку с его преобладанием в сознании мифопоэтических начал. Когда-то, еще до классической Греции, они были достаточно близки по духу. Время для древнего грека, как и для индуса не являлось тем важнейшим элементом исторической действительности, каким оно стало для грека византийского. Так, например, Освальд Шпенглер сообщает: “Есть надпись, заключающая договор между Элидой и Гереей, который должен длиться “сто лет, начиная с настоящего года”. Нельзя, однако, установить, что это был за год. Итак, по прошествии некоторого времени уже не знали, сколько времени длится договор, и, очевидно, никто на это не обращал внимания… Тот факт, что точная датировка какой-нибудь “троянской войны”, отвечающей, по своему положению, периоду наших крестовых походов, показалась бы прямо идущей вразрез со стилем, обнаруживает сказочно детский характер античной исторической картины”. Однако именно в недрах античного греческого мира впервые зародился рациональный подход к восприятию мира и родоначальником этого философского движения Ницше, например, считал Сократа с его извечной тягой к выяснению значений слов
и определений. Как бы то ни было, именно в платоновской философии впервые прозвучали слова о конце мифа как способа объяснения картины мира, и о начале разумного постижения действительности. С этого момента западное и восточное сознание стали всё более и более отдаляться друг от друга, превращаясь со временем в два полярных способа мышления, в два противоположных мировосприятия.В настоящее время мы являемся свидетелями своеобразного взаимообмена между западной и восточной цивилизацией. Практически на весь мир распространился так называемый западный стандарт жизни, включающий в себя особые отношения в экономической, политической, юридической и многих других сферах деятельности человека. Однако мы можем наблюдать и ответное движение идей с Востока. Так, например, уже давно отмечено довольно высокое влияние в западном мире всевозможных буддийских общин, а в Северной Америке всё большую популярность приобретают некоторые индуистские учения, распространяемые непосредственно индийскими учителями-гуру. У нас в России, в частности в Санкт-Петербурге, также отмечены подобные явления. В чём причина такого необычного экспорта с Востока? Думается, что это связано с тем, что индивидуальное западное сознание просто “задыхается” в условиях тотального утилитаризма жизни, где правят бал соображения практической пользы, конкретного результата, коммерческой выгоды и прочие плоды технократической цивилизации. Человеку помимо материального обеспечения насущно необходимо нечто сакральное в жизни, некая духовная истина, освящающая
сам смысл человеческого существования на Земле. Западному сознанию, жёстко структурированному в сухие рационально-логические схемы мышления, явно не хватает тех мифопоэтических начал, которыми выгодно отличается мировосприятие Востока. Одним из ярчайших проявлений такого мировосприятия выступает в индуизме этический принцип не причинения зла ничему живущему - ахимса. Именно благодаря сохранению в своём сознании таких начал Восток и сумел не только создать ни с чем не сравнимую, необычайно колоритную, цветистую культуру, что само по себе уже привлекает внимание западного человека, но стать своеобразным законодателем мод в духовной жизни человечества. Всё это стало возможным во многом благодаря тому, что в результате прочных многовековых традиций в душе восточного человека осталось трепетное отношение к священному, святому, что совершенно утратил, к сожалению, человек западный. Одним из ярких примеров этого может служить восстание сипаев против англичан в 1857 – 1859 гг., которое в советской историографии всегда именовалось антиколониальным. Однако настоящей причиной его явились поступившие на вооружение английских колониальных войск ружья новой системы, которые заряжались патронами, завёрнутыми в бумажную оболочку. Эту оболочку по правилам надо было срывать зубами, однако вся беда заключалась в том, что смазка, которой были покрыты и оболочка и патроны, изготовлялась из смеси коровьего и свиного сала. Среди сипаев, как известно, были не только индусы, почитавшие корову, но и мусульмане...Таким образом, взаимообмен двух величайших цивилизаций мира происходит как бы в совершенно разных плоскостях человеческой жизни: материальной и духовной. Это, безусловно, стало возможным только в результате долгих столетий соответствующих наработок, кропотливого труда и упорства человеческого духа в освоении разных ценностей бытия. Поэтому представляется совершенно неуместным искусственное деление европейским разумом всех народов на исторические и не-исторические. В силу этого никак нельзя согласиться с тем же О. Шпенглером, когда он утверждает следующее: “Никогда ещё люди, даже в древнем Китае, не были такими бодрствующими и сознательными, никогда ещё так глубоко не чувствовали время и не переживали с таким полным сознанием его направления и чреватого судьбами движения. История
Европы есть созданная своей волей судьба, индийская - непроизвольная случайность”. Что касается времени и его ощущения человеком, то этот вопрос мы уже достаточно подробно рассмотрели, а вот в отношении случайности индийской судьбы и осознанности древних китайцев, то здесь Шпенглер, на мой взгляд, демонстрирует излишнюю самоуверенность, присущую, к сожалению, практически всем современным европейским мыслителям. Как мне представляется, настаёт время говорить об особом способе исторического переживания разными народами, культурами и цивилизациями в разные исторические эпохи. Исторический образ западного сознания представляется как образ созерцания времени - временной историзм. Что же касается восточного сознания, в частности индийского, то здесь мы имеем дело не с горизонтальным движением разума по плоскости времени, а как бы с вертикальным, углублённым в себя, в свою духовную сущность восприятием. Не историческим такое восприятие жизни может казаться только рациональному западному сознанию, привыкшим мерить историческое по своим меркам. Та цепь внешних событий и фактов, которую мы называем историей, до сих пор не раскрыла да и вряд ли когда-нибудь раскроет для наших европейских историков все свои тайны. У Индии безусловно была своя история, свой ритм общественной жизни, своё движение культуры, своя философия, и в конечном счёте своё отношение к духу, к Абсолютному. И как нельзя лучше может продемонстрировать этот разный подход к бесконечным вопросам жизни и смерти, духа и материи, цели и средств характерный диалог, которым я и хотел бы закончить свою статью. Он произошёл во время очень символической встречи двух великих культур Востока и Запада, во время совершения Александром Македонским своего знаменитого похода в Индию. Когда Александру доложили, что неподалёку от его лагеря в джунглях обитают индийские святые отшельники-брахманы, питающиеся только плодами леса и посвятившими свою жизнь созерцанию, а также единению с природой и мировой душой, он послал к ним своего друга, писателя и учёного Онесикрита, с предложением, чтобы они присоединились к македонской армии и сопровождали царя в его завоевательном походе. В ответ на это “заманчивое” предложение один из мудрецов по имени Калан ответил: “Твоему повелителю никогда не получить больше, чем имеем мы все. А именно - куска земли, на котором он стоит”
Гроховский П. Л.
(СПбГУ, вост. ф-т)Источники для изучения “Самадхираджа-сутры”
“Самадхираджа-сутра” — каноническое сочинение буддизма Махаяны, входящее в состав буддийского канона на китайском, тибетском, монгольском языке, а также существующее в виде отдельных рукописей на санскрите. “Самадхираджа-сутра” также входит в число Девяти Дхарм, или Девяти Провозглашений Дхармы (санскр. Нава Дхарма, Нава Дхармапарьяя) — особого объединения сочинений, характерного для неварского буддизма в Непале. Большинство из этих девяти сочинений являются “весьма пространными сутрами” (санскр. махавайпульясутра), относясь к одному из наиболее характерных жанров махаянской литературы. От более ранних, хинаянских сутр их отличает значительно больший объем, чередование стихов и прозы, использование так называемого “буддийского гибридного санскрита” (термин Ф. Эджертона) и, конечно же, распространенность в большем географическом регионе (от Индии до Дальнего Востока), обусловившая существование редакций этих текстов на целом ряде языков
.Так, например, “Самадхираджа-сутра” существует на четырех языках: в санскритском первоисточнике и переводах на три языка: китайский, тибетский и монгольский. Переводы на другие восточные языки неизвестны, за исключением японского, но перевод на японский язык был сделан уже в XX столетии (перевод с китайского —Хаяси Таюн [
Hayashi], перевод с санскрита — Тамура Тидзюн и Итиго Масамити, цит. по [Nakamura, 173]). Рассмотрим сначала тексты, входящие в состав канонических собраний.До нас дошли два перевода “Самадхираджа-сутры” на китайский язык в составе китайской Трипитаки годов Тайсё. Из каталогов ранних редакций китайского буддийского канона известно о более древнем переводе “Самадхираджа-сутры” на китайский язык, который, впрочем, не сохранился до настоящего времени. В качестве автора этого перевода, датируемого 148 г. н. э., назван Ань Ши-гао
.Первое издание трех глав тибетского текста “Самадхираджа-сутры” (VIII, XIX и XXII) было выполнено К. Регамеем на основе сопоставления двух ксилографических изданий этого сочинения в составе тибетского Кангьюра: нартанского и пекинского издания [Rйgamey, 5, 8-9].
Издание тибетского текста IX главы “Самадхираджа-сутры” было выполнено К. Кюпперсом на основе сопоставления шести изданий этого сочинения в составе тибетского Кангьюра, которые он обозначает следующим образом: источник В, берлинский рукописный Кангьюр; источник D, дергеское издание в редакции школы Ньинмапа; источник L, фотокопия лхасского Кангьюра из Гамбургского университета; источник Li, микрофильм литанского Кангьюра из Берлинской государственной библиотеки; источник P, японское издание пекинского Кангьюра; источник T, издание дворцового Кангьюра из Тога,— цит. по [Cьppers, XV].
В Тибетском фонде СПб ФИВ РАН хранятся три издания тибетского Кангьюра: пекинское, нартанское и дергеское.
Известно две редакции “Самадхираджа-сутры” в составе монгольского Ганджура. Первая входит в состав рукописного Ганджура 1628-29 гг., экземпляр которого хранится в рукописном фонде библиотеки Восточного факультета СПбГУ [Касьяненко, 207-208;
HM]. Вторая редакция входит в состав ксилографического Ганджура 1717-20 гг. [Ligeti, 231-232]. Ксилографическое издание “Самадхираджа-сутры” было воспроизведено Локешем Чандрой фототипическим способом в составе переиздания монгольского Ганджура, хранящегося в коллекции Рагху Виры в Международной академии индийской культуры, в серии “Шата-Питака” [шata-Piсaka 171, сс. 2-446].Кроме текстов “Самадхираджа-сутры”, содержащихся в различных канонических сборниках, до нашего времени дошли также самостоятельные тексты. Впрочем, возможно, что канонические собрания, в которые входили эти тексты, просто не сохранились. Известны самостоятельные тексты “Самадхираджа-сутры” на двух языках: санскрите и тибетском.
Санскритских рукописей “Самадхираджа-сутры” существует довольно много. Наиболее древним текстом является рукопись на бересте, о находке которой в развалинах буддийской ступы в Гильгите, Пакистан, среди прочих сочинений буддизма Махаяны в июле 1931 г. объявил известный английский путешественник и ученый Аурел Стейн [Gilgit 9, введение] и которая на палеографических основаниях датируется примерно
VI-VII вв. [Vaidya, VIII] , VIII] _ _ских _йский пу. В научной литературе, посвященной исследованию редакций “Самадхираджа-сутры” этот источник, как правило, обозначается как рукопись C (в данной работе она будет обозначаться СD — рукопись С Датта). Рукопись СD содержит не вполне полный текст “Самадхираджа-сутры”, так как некоторые листы не сохранились (в частности, начало и конец сочинения) или дошли до нас в поврежденном состоянии. Рукопись СD была воспроизведена фототипическим способом в издании Локеша Чандры “Гильгитские рукописи” [Gilgit 9, лл. 2461-2784]. Этот источник, наряду с другими рукописями из Гильгита, в настоящее время хранится в Национальных архивах Индии, Нью-Дели, под №№ 1-62 [Gilgit 9, введение].Об остальных рукописях известно, главным образом, из работ тех исследователей, которые брали на себя труд подготовки критического издания полного санскритского текста сочинения или его фрагментов. Так, издание трех глав (VIII, XIX и XXII) санскритского текста, выполненное К. Регамеем, основывается на четырех непальских рукописях (A
R, BR, CR, DR), первые три из которых хранятся в Национальной библиотеке, Париж, а четвертая — в библиотеке Кембриджского университета. Регамей сообщает, что эти рукописи являются, к сожалению, поздними копиями, восходящими к началу XIX в, и содержат много ошибок [Rйgamey, 5, 8]. Наличие ошибок объясняется, вероятно, тем, что в Непале махаянские тексты переписывались писцами не столько ради изучения самих текстов, сколько ради получения религиозных заслуг [Cьppers, XIX].Издание Н.Датта [Dutt] (цит. по [Gilgit 9, введение]) а за ним и П.Л.Вайдьи, построено на сопоставлении рукописи C
D с более поздними рукописями АD и BD непальского происхождения. Рукопись АD была вывезена из Непала в Индию Хара Прасад Шастри, рукопись ВD — Б. Х. Ходжсоном. Говоря о двух этих рукописях, П. Л. Вайдья отмечает, что рукопись АD читается легче, нежели рукопись ВD [Vaidya, VII-VIII].Издание IX главы санскритского текста, выполненное К. Кюпперсом, помимо рукописи С
D, опирается еще на 12 рукописей непальского происхождения: рукопись ЕC, рукопись FC, рукопись MC, рукопись NC, рукопись OC, рукопись QC, рукопись RC, рукопись SC, рукопись WC, рукопись XC, рукопись YC, рукопись ZC. Все эти рукописи были пересняты на пленку в ходе осуществления Непальско-германского проекта сохранения рукописей. Более подробное описание рукописей см. в [Cьppers, XIII-XIV].В рукописном фонде СПбФ ИВ РАН хранятся два фрагмента санскритских рукописей “Самадхираджа-сутры” из Кашгара (Восточный Туркестан), датируемые на палеографических основаниях VI-VIII вв. н. э. Первый фрагмент содержит текст из XVII главы, второй — из XXIII. Сведения о первом фрагменте были опубликованы Г. М. Бонгард-Левиным и М. И. Воробьевой-Десятовской в 1985 г. [Памятники I, 30], сведения о втором, вновь отождествленном фрагменте и полный текст обоих фрагментов были опубликованы теми же авторами в 1990 г. [Памятники
II, 264-268].Отметим, что все вышеперечисленные санскритские источники являются рукописями. Ксилографические издания “Самадхираджа-сутры” на санскрите не известны.
Кроме издания “Самадхираджа-сутры” в составе тибетского Кангьюра, известны три рукописи из Дуньхуана, содержащие фрагменты этого сочинения. Эти рукописи использовались К.Кюпперсом при подготовке критического издания тибетского текста IX главы “Самадхираджа-сутры” наряду с материалами в составе канона и были обозначены им следующим образом: рукопись G
C, рукопись AC и рукопись HC [Cьppers, XIV].Кроме рукописи H
C, в лондонской Индийской библиотеке (India Office Library) хранятся еще два рукописных фрагмента “Самадхираджа-сутры” [de la Vallйe Poussin, №№196, 197]. Все три лондонских источника были привезены А. Стейном из его второй центрально азиатской экспедиции в 1906-08 г. [de la Vallйe Poussin].Цитирование
Кроме изданий собственно “Самадхираджа-сутры” на различных языках, важными источниками для ее изучения являются сочинения, содержащие цитаты и выдержки из этого текста.
Уже К. Регамей отмечал наличие большого количества цитат из “Самадхираджа-сутры” в таких сочинениях, как “Прасаннапада” Чандракирти (комментарий к “Мадхьямакашастре” Нагарджуны) и “Шикшасамуччайя” Шантидевы [Prasannapadà; øikùàsamuccaya; Rйgamey, 5, 7].
К. Кюпперс указывает на наличие цитат из “Самадхираджа-сутры” в таких санскритских текстах, как: “Муламадхьямака-карика” Нагарджуны [Målamadhyamakakàrikà], “Прасаннапада” Чандракирти [Madhyamaka÷àstra;]), первая “Бхаванакрама” Камалашилы, третья “Бхаванакрама”, “Бодхичарьяаватара” Шантидевы с комментарием Праджнякарамати “Паньджика”, и “Шадангайога”, и в таких сочинениях на тибетском языке, как: “Мадхьяамакаватара” и “Чатухшатака-тика” Чандракирти, “Bstan snying yig cha” of Ngo rje ras pa/ Zhe sdang rdo rje, “Theg pa chen po’i man ngag gi bstan bcos yid bzhin rin po che’i mdzod kyi ‘grel pa padma dkar po ldeb”, “Dgongs gcig yig cha: Detailed Presentations of ‘Bri-gung ‘Jig-rten-mgon-po’s Dgongs gcig Precepts of Mahayana Buddhist Philosophy by Dbon-po shes-rab-‘byung-gnas”, “Мадхьямакаратнапрадипа” [Madhyamikaratnapradãpa], “Rim gyis ‘jug pa’i sgom don” [Kramaprave÷ika-bhàvàna-pada] Вималамитры, вторая “Бхаванакрама”, “Таттвасарасанграха” Дхармендры [Tattva-sàra-sa§graha], “Юктишаштикавритти” Чандракирти [Yuktiùaùñikà-vçtti], “Мадхьяамакаланкара” Шантиракшиты с автокомментарием (вритти) и вторичным комментарием Камалашилы (паньджика), “Nges don phyag rgya chen po’i sgom rim gsal bar byed pa’i legs bshad zla ba’i od zer by Dvags po bkra shis rnam rgyal” — цит. по [Cьppers, XVI-XVII].
Цитаты из “Самадхираджа-сутры” содержатся также в таких сочинениях, как “История буддизма” Бутона [Bu-ston, т. I, 73, 85, 86, 126, т. II, 133, 169], “Дверь, ведущая в учение” Соднам Цзэмо [Соднам Цзэмо, 11, 14] и “Ламрим” Цзонхавы [Цонкапа I, 33-34, 41-42, 49, 61-62, 235-236, 250, 251, 276, 306, 324, 325; Цонкапа II, 118-119] и намтар Гамбовы: 36 глава полностью и цитаты из главы 35 [Алексеев, 260-261, 274]. Nom-un boNom-un bo čoγtu yeke sGambo-pa-yin čadig kьsel-i qangγaγči čindamani erdeni bükьne tьgemel iraγu banjid tonilqu-yin čimeg-ün degedь erdeni kemegdekь orosiba:: [Алексеев, 281; Čadig].
Комментарий
Есть еще одно сочинение, которое содержит очень много цитат из “Самадхираджа-сутры”, но качественно отличается от всех текстов, перечисленных выше, так как является непосредственным комментарием к этой сутре. Комментарий был написан на санскрите ученым по имени Маньджушрикирти, затем переведен на тибетский язык и включен в состав тибетского Тенгьюра — собрания авторских комментариев к Слову Будды. Санскритский текст не сохранился, и до нас дошел только тибетский перевод [PK].
К. Регамей не издавал фрагментов текста комментарий Маньджушрикирти, но пользовался его текстом в составе издания тибетского Тенгьюра [Rйgamey, 5, 8].
К. Кюпперс осуществил критическое издание тибетского текста комментария Маньджушрикирти к IX главе “Самадхираджа-сутры” на основании сопоставления текста этого сочинения в следующих изданиях: источник Kd, дергеский Тенгьюр в издании Ньинмапы, и отдельное издание “Ting nge ‘dzin gyi rgyal po’i ‘grel”; источник Kc, микрофильм чонэского издания Тенгьюра из Гамбургского университета; источник Kn, нартанское издание Тенгьюра из Берлинской государственной библиотеки; источник Kp, пекинское издание Тенгьюра [
PK] — [Cьppers, XV].Связи с другими источниками
Помимо цитирования и комментирования, существует еще один тип интертекстуальных отношений между “Самадхираджа-сутрой” и другими сочинениями. Это наличие общих сюжетов или частичное совпадение текстов. Подобные связи существуют между “Самадхираджа-сутрой” и такими сочинениями, как: “Рашмисамантамуктанирдеша-сутра” [
Ra÷misamantamuktanirde÷asåtra], “Прашантавинишчайяпратихарьясамадхи-сутра” [Pra÷àntavini÷cayapràtihàryasåtra], “Чандрапрабхабодхисаттвачарья-авадана” [Candraprabha-avadàna] [Cьppers, XXIII-XXV].Соотношение основных редакций “Самадхираджа-сутры”
Японскими исследователями предпринимались попытки свести основные из существующих разноязычных вариантов “Самадхираджа-сутры” в единую хронологически-генеалогическую последовательность. В итоге сопоставления текстов возникала следующая хронологическая картина:
1. Китайский перевод Ши Сянь-гуна.
2. Китайский перевод Нарендраяшаса и санскритская рукопись С.
3. Тибетский перевод Шилендрабодхи и Дхарматашилы.
4. Санскритская рукопись В.
5. Санскритская рукопись А [Nakamura, 173].
Список цитированной литературы
Алексеев. – Намтар Гамбовы Дагпо Лхаджэ в Кхайпай Гатон — сочинении по истории буддизма в Тибете. Пер. с монг. К. В. Алексеева // Буддизм в переводах. Выпуск 2. СПб., 1993, сс. 256-282.
Гроховский. – Гроховский, П. Л. Китайские переводы “ Самадхираджа-сутры” . — Двадцать седьмая научная конференция “ Общество и государство в Китае” . М, 1996, сс. 243-247.
Касьяненко – Каталог Петербургского рукописного “Ганджура”. Составление, введение, транслитерация и указатели З. К. Касьяненко. М., 1993.
Памятники I. – Памятники индийской письменности из Центральной Азии. Выпуск 1. М., 1985.
Памятники II. – Памятники индийской письменности из Центральной Азии. Выпуск 2. М., 1990.
Соднам Цзэмо. – Соднам-Цзэмо. Дверь, ведущая в учение. СПб., 1994.
Цонкапа I. – Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути Пробуждения. Т. I. СПб., 1994.
Цонкапа II. – Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути Пробуждения. Т. II. СПб., 1995.
Bu-ston.
– Bu-ston. History of Buddhism (Chos-‘byung). Parts 1-2. Heidelberg, 1931-32.Čadig
– nom-un bo – nom-un čoγtu yeke sGambo-pa-yin čadig küsel-i qangγaγči čindamani erdeni bükьne tьgemel iraγu banjid tonilqu-yin čimeg-ün degedь erdeni kemegdekь orosiba::, РФ ВФ СПбГУ, mong D256, Mns (бур.)Candraprabha-avadàna
. – Тибетский фонд СПбФ ИВ РАН. Шифр С-15418, № 1017, раздел mdo sna tshogs, том ke, лл. 24a3-33b3. Divyāvadāna, ćлава 22, (Тайсё №169 и 153. “Чандрапрабхабодхисаттвачарья-авадана”)Cьppers. – Cьppers, Ch. The IXth Chapter of the Samā
dhirājasūtra. A Text-critical Contribution to the Study of Mahāyāna Sūtras. Stuttgart, 1990.de la Vallйe Poussin
. – de la Vallйe Poussin, Louis. Catalogue of the Tibetan Manuscripts from Tun-Huang in the India Office Library. Oxford, 1962.Dutt. – Gilgit Manuscripts. Ed. by N.Dutt. Vol. I. Srinagar-Kashmir, 1939; Vol. II, part I. Srinagar-Kashmir, 1941.
Gilgit 9. – Gilgit Buddhist Manuscripts. Facsimile Edition by R.Vira and L. Chandra. Vol. 9. New Delhi, 1974.
Hayashi. –
Kokuyaku Issaikyō, Kyōshūbu, vol. 1. Tokyo, Daitō Shuppansha. 1930.HM. –
Qutuγ-tu qamuγ nom-ud-un mφn cinar tegsi sača teyin böged edьgьlьgsen samadis-un qaa teyin bφged edόφlgen sudur, шифр Q 736, инв. №№ 1067-1180, том 82, раздел Eldeb, том X (tha), № 642(1), лл. 1b-58bKramaprave÷ika-bhàvàna-pada
. – rim gyis ‘jug pa’i sgom don. Тибетский фонд СПбФ ИВ РАН. Шифр C-14138, № 5334, раздел mdo ‘grel, том a, лл. 397b6-419a8.Ligeti. – Ligeti L. Catalogue du Kanjur Mongol Imprimй. Vol. I. Catalogue. Budapest, 1942-1944.
Madhyamikaratnapradãpa.
– dbu ma rin po che’i sgron ma zhes bya ba. Тибетский фонд СПбФ ИВ РАН. Шифр C-14126, № 5254, раздел mdo ‘grel (dbu ma), том tsha, лл. 326a6-365a8.Madhyamaka
÷àstra. – Madhyamaka÷àstra of Nàgàrjuna with the Commentary Prasannapadà by Candrakãrti. Ed. by P.L. Vaidya. BST. no. 10. Darbhanga, 1960.Målamadhyamakakàrikà.
– Målamadhyamakakàrikàs de Nàgàrjuna. Ed. by Louis dea la Vallйe Poussin. Bibl. Buddhica, IV, SPb., 1913.Nakamura
. – Nakamura, Hajime. Indian Buddhism. A Survey with Bibliographical Notes. Delhi, 1987.øata-Piñaka
171. – øata-Piñaka Series, vol. 171. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1978. том 71, раздел Eldeb, том XII, № 884(1), лл. 1-223a.øikùàsamuccaya.
– øàntideva. øikùàsamuccaya. Bibl. Buddhica, I, СПб., 1897 (1902).PK. –
‘phags pa chos thams cad kyi rang bzhin mnyam pa nyid rnam par spros pa’i ting nge ‘dzin gyi rgyal po shes bya ba theg pa chen po’i mdo’i ‘grel pa grags pa’i phreng ba zhes bya ba, шифр С-14145, раздел mdo ‘grel, том nyi, лл. 1-187а3Prasannapadà
. – Candrakãrti. Prasannapadà. Bibl. Buddhica, IV, СПб., 1913.Pra÷àntavini÷cayapràtihàryasåtra
. – Тибетский фонд СПбФ ИВ РАН. Шифр С-15411, № 797, раздел mdo sna tshogs, том thu, лл. 189b5-228a3.Ra÷misamantamuktanirde÷asåtra
. –Тибетский фонд СПбФ ИВ РАН. Шифр С-15403, № 760, 11, раздел dkon brtsegs, том dzi, лл. 218b2-281b3.Rйgamey. –
Rйgamey, K. Three Chapters from the Samādhirājasūtra. Warszawa, 1938.Tattva-sàra-sa§graha
. – de kho na nyid kyi snying po bsdus pa. Тибетский фонд СПбФ ИВ РАН. Шифр C-14094, № 4534, раздел rgyud ‘grel, том nu, лл. 87a6-110b8.Vaidya. – Samādhirājasūtra. Ed. by P.L.Vaidya. Darbhanga, 1961.
Yuktiùaùñikà-vçtti
. – rigs pa drug cu pa’i ‘grel pa. Тибетский фонд СПбФ ИВ РАН. Шифр C-14132, № 5265, раздел mdo ‘grel, том ya, лл. 1-33b3.
Перекатиева Н. В.
(РГИ при СПбГУ)Типы адаптации буддизма в немецкой культуре.
Адаптация религии
представляет собой процесс усвоения и приспособления данной религии в культурно-дифферентной (отличной) среде. В ракурсе известных и введенных нами типов взаимодействия культур проинтепретируем их в контексте адаптации буддизма в Германии.1)
Контакт. Под этим типом здесь понимается прибытие новой религиозной традиции на почву чужой культуры и дальнейшее взаимное осмысление (с позиций прибывшей религии и воспринимающей культуры). На этой начальной стадии адаптации появляются первые переводы канонической литературы реципиируемой религии.В истории буддизма в Германии форма контакта реализовалась в виде философской и филологической рецепции XIX в., затем в выступлениях убежденных сторонников буддизма (например, цикл докладов К. Зайденштюкера 1903 - 1904 гг.), образовавших первые буддийские организации в начале ХХ в.
Первыми буддистами в Германии стали немцы, а не азиатские миссионеры, поэтому они сами начали процесс освоения буддийского канона сообразно своим личным предпочтениям (поиск гуманистического содержания в буддийском учении, осмысление через сопоставление и противопоставление христианству, интерес к буддийской “спиритуальности” в русле литературно-художественных поисков рубежа XIX - XX вв. и т. д.). В результате этого из доступных источников были восприняты сначала палийские. Специфический отбор (селекция) буддийского материала на этапе контакта вылился в редукцию буддизма в аспекте “религии разума”, “истинной мудрости”, “религии будущего” (например, у Зайденштюкера, Шульце и мн. др.).
Тип “контакт” в истории немецкого буддизма встречался на разных этапах рецепции: так, адекватное и широкое освоение дзэнского наследия и тибетского буддизма началось в Германии только с 60-х гг. ХХ в.
Прибывшая в новый культурный контекст религия сталкивается с разнообразными социальными условностями и обычаями, принципиально несовместимыми с собственным представлением о религиозном образе жизни. Воспринимающая сторона контакта наталкивается на “инаковость” новой религиозной традиции. В данном случае речь идет об аспекте “терпимости” (“толерантности”) контактирующих сторон друг к другу. Толерантность является важным условием культурного контакта, акклиматизации религии, перенесенной в инокультурную среду. Однако воспринимаемая религиозная традиция постепенно оказывает обратное воздействие на реципиирующую культуру, прежде всего, в точках их расхождения (в обычаях, социальных условностях, ментальности и т.д.): например, призывы западных буддистов к сокращению потребления, духовной гигиене.
2)
Конфронтация и конфликт (столкновение культур): Культурный конфликт как процесс и результат взаимодействия культур есть “критическая стадия противоречий в ценностно-нормативных установках, ориентациях, позициях, суждениях ...” (А. Я. Флиер, см.: Культурология ХХ век, 1997: с. 194), обусловленная несовместимостью мировоззренческих установок, традиций, оценок и т. д.Однако конфликт или столкновение “culture-clash” (“clash of cultures”) культур не исключает и даже предполагает дальнейшее распознавание друг друга и комплементарность, ибо разрешение конфликта влечет за собой либо бескомпромиссную конфронтацию (сопоставление по типу “свое-чужое”), ксенофобию (неприязнь к “чужому”) и отторжение (враждебность, признание абсолютной несовместимости), либо компромисс, конвенцию (соглашение) на основе интереса к “иному”, выявления точек пересечения, ценностных совпадений в ходе творческого соперничества (конкуренции) различных культурных парадигм.
Тот же сложный механизм характерен и для процесса переноса религии в новую культурную среду, когда конфронтируют обе взаимодействующие стороны (воспринимающая культура и воспринимаемая религиозная традиция). Так последняя стремится подчеркнуть собственное своеобразие и отграничить себя от других, даже близких религиозных и мировоззренческих установок, кроме того, она “пытается представить собственное превосходство или большую способность, например, в решении актуальных общественных проблем, через ссылку на дефицит в наличной религии и воспринимающей культуре” (Baumann, 1995: s. 331).
Воспринимающая культура в большей или меньшей степени готова принять новую религию, степень терпимости зависит от диспозиций (исторических, общественно-политических условий и предпосылок) культуры-реципиента, определяющих характер конфликтной ситуации.
В истории немецкого буддийского движения форма контакта, повлекла за собой первые конфликты и даже конфронтацию между сторонниками буддизма (Т. Шульце, К. Зайденштюкер и др.) и представителями доминирующих конфессий империи (кайзеровского государственного протестантизма и католицизма), ибо первые выступили с открытой критикой современных христианских церквей и христианства в целом, вызвавшего, по их мнению, девальвацию ценностей западной цивилизации и ее “закат”. Первые адепты буддизма в Германии противопоставили христианству, как “религии люмпенов”, буддизм, как “научную религию познания” (К. Зайденштюкер) и истинный гуманизм.
Конфликт в форме полемики между немецкими буддистами и христианами наблюдается на протяжении всей истории рецепции, однако, уже с самого начала возникла готовность к диалогу, терпимости (сравнительно-религиоведческие исследования), которая привела в кон. 50 - нач. 60-х гг. ХХ в. к такой своеобразной форме восприятия буддизма в Германии как “Дзен для христиан” или “католический Дзэн”.
В то же время спор с конкурирующими религиозными установками, прежде всего, направлен на взаимное отграничение и создание позитивного образа собственной религиозной традиции с каждой стороны. Так, обвинения в “недоброкачественности” христианства со стороны буддистов вызвали, прежде всего, у протестантов начала ХХ в. ответную реакцию (например, у Г. Рёмера, Р. Фальке, Т. Симона, В. Главе и мн. др.).
Хотя кайзер Вильгельм II, поборник протестантизма, был обеспокоен выступлениями и активностью немецких буддистов (он даже нарисовал известную карикатуру “Народы Европы, охраняйте свои святыни!”, где над войсками Антихриста витало облако в виде медитирующего Будды), первым немецким буддистам удалось избежать открытой общественно-политической конфронтации с властями. Однако вопрос о создании первой немецкой вихары был закрыт.
Если общественно-политические диспозиции рецепции буддизма в Германии на исходе XIX в. были неблагоприятными и сдерживали буддийскую активность, то духовная атмосфера “девальвации” христианских ценностей, поиска истинной религиозности ей способствовала.
Конфликтные моменты встречались так же внутри самого буддийского движения (“анатта-контроверза” Дальке и Гримма, негативное восприятие Махаяны в целом и дзэн-буддизма в частности, а так же неприятие к “примитивному”, “первобытному” архаизму тибетского буддизма на ранних этапах рецепции и т. п.).
3)
Редукция (ограничение содержания): Одной из форм межкультурного взаимодействия можно назвать “редукцию” (от лат. reductio - отодвигание назад, отдаление; возвращение к прежнему состоянию). Редукция в контекте межкультурного взаимодействия - это восприятие какой-либо культурой “чужих” традиций на основе жесткой селекции (отбора) реципиируемого материала, когда определенные аспекты его избегаются (умалчиваются) в целях предупреждения конфронтации (конфликта) культур, говорящих на разных языках. На протяжении всей истории духовной встречи Запада и Востока первый избирательно редуцировал наследие второго (и наоборот).В ходе редукции не акцентируются те аспекты религии, которые “неприемлемы или требуют больших разъяснений” (Baumann, 1995: s. 343) для культуры-реципиента, например, космология, мифология, ритуальная практика. Всякая нестыковка с картиной мира воспринимающей культуры снимается, подчеркиваются же соприкосновения, параллели, точки пересечения. Причем, в типе “редукции” религии в процессе ее адаптации речь идет не об упрощении учения, “а о версии, спроектированной на новые условия” (Baumann, 1995: s. 343).
Например, на ранних фазах рецепции буддизма в Германии девоциональный (ритуальный) аспект буддизма совершенно не принимался во внимание, почти неизвестны были буддийские психотехники, доминировало рационалистическое понимание этой религии и выделение ее этических моментов. Кроме того, “аутентичный” буддизм ограничивался палийским каноном, Махаяна же и все ее школы объявлялись поздней “схоластикой” и “дегенерированным учением”. Напротив, после взлета тибетского буддизма на Западе во второй половине 60-х гг. ХХ в. появилось множество ваджраянских общин, делающих акцент на медитативных практиках и ритуалах, вытесняющих на второй план само содержание учения (например, группы Оле Нидала).
В истории немецкого буддизма буддийское учение редуцировалось и подвергалось селекции в соответствии с потребностями времени, обстоятельствами, характеризующими различные этапы рецепции: на первых фазах подчеркивались идея ответственности буддиста перед самим собой, нетеизм буддизма и его отнесенность к разуму и опытному знанию, противопоставлявшиеся христианской “пассивности” и созерцательности; буддийские модернисты на Западе и в Азии подчеркивали совместимость дхармы с данными современных наук (например, П. Дальке, Лама Говинда и др.); культур-протестные молодежные течения 60 - 80-х гг. в поисках истинных и интенсивных религиозных переживаний нашли своих “гуру” на буддийском Востоке, отдавая предпочтение тибетским школам и дзэн-буддизму и вычленяя из них идеи, созвучные своим нигилистическим и контркультурным лозунгам.
Редукция присуща не только процессу переноса религии в иную культурную среду, но является “внутренним” фактором религиозного изменения (например, буддийский модернизм на Востоке, редукция “монашеского” раннего буддизма в Махаяне и т. д.).
4)
Реинтерпретация (перевод, многозначность): Реинтерпретация, как и редукция, характерна не только для процесса переноса религии, но и для внутрирелигиозного изменения вообще, как способ обновления религии (например, модернизм в азиатском буддизме, появление различных школ, дающих свою версию учения и т. д.). Реинтерпретация, как тип религиозной адаптации в чужой культуре, представляет собой актуализацию учения в новых условиях воспринимающей культуры, то есть его инновативное собственное развитие. В исследованиях Нотца реинтепретация является второй стратегией актуализации религии в новом культурном контексте.На Западе подверглось реинтерпретации будийское учение о перерождении, которое совершенно противоречит иудео-христианскому взгляду на уникальность и конечность человеческой жизни. Космологические аспекты этого перерождения редуцируются, и интерпретация его переносится в посюсторонний мир человеческой жизни: так, Айя Кхема (И. Ледерманн, немецкая монахиня Тхеравады) объясняет, что человек каждое утро рождается и кажый вечер умирает, сохраняя карму, накопленную во все предыдущие дни своего существования (Wegzeichen, 1994: s. 91).
Идеи дхармы (карма, сансара, алая-виджняна и др.) сопоставляются так же немецкими интерпретаторами и адептами буддизма с “психологическими процессами” и толкуются в категориях западной науки (психологии, квантовой физики). Таким образом, в результате реинтепретации воспринимаемое религиозное учение не оспаривается, но иначе акцентируется и подается согласно новому контексту.
При переносе религии в чужую культуру с обеих сторон неизбежны ошибочные интерпретации, недосказанность, недоразумения, в результате чего возникает обоюдная проблема понимания, “неизбежная многозначность” (Зайверт). Для успешной адаптации религии в чужой среде необходимо решение проблемы понимания. Поиск точек соприкосновения, соответствий и общих концептов (как и отличий и противоречий) и их акцентирование способствует приведению в соответствие новой религиозной традиции с системой понятий воспринимающей культуры, что является в то же время важным условием ее “акклиматизации”, распространения и укоренения в новой среде.
Так, в истории рецепции буддизма в Германии (XVIII - XIX вв.) первоначально доминировало восприятие буддизма как “пессимистического”, “мироотрицающего” учения (от Лейбница до Ницше). Однако уже Ф. Макс Мюллер критиковал подобные взгляды и обозначал буддизм как “религию оптимизма”. При этом первый подход сохраняется до сих пор, как и второй, хотя, западные реципиенты этой религии пришли к мысли, что она находится “по ту сторону добра и зла” (Лама Анагарика Говинда). Кроме того, в качестве примера многозначности (амбигуитета) можно назвать различные интерпретации Дхармы, которые сложились и сосуществуют по сей день на Западе (рациональные, психоаналитические, интегративные, феминистские и др.).
Процесс интерпретации воспринимаемой религии может трансформировать саму реципиируемую традицию до такой степени, что она будет значительно отличаться от аутентичной (как тибетский буддизм от индийского). Здесь процесс адаптации религии приводит к созданию формы ее собственного (инновативного) развития.
Для решения проблемы понимания и акклиматизации, укоренения религии в инокультурной среде ее каноническую литературу необходимо перевести, интерпретировать на языке воспринимающей культуры. Таким образом, процесс перевода содержит не только филологический аспект (передача новых концептов на языке реципиентов), но и философский, герменевтический аспект (компаративный анализ, соотнесение реципиируемых идей с системой понятий культуры-приемника, поиск точек соприкосновения и отличия и интерпретация концептов и текстов), продуцирующий многозначность (амбигуитет) восприятия.
Иногда буддийским понятиям на Западе находились точные, “зеркальные” параллели: например, “алая-виджняна” (“сознание-хранилище”), по мнению Анагарики Говинды, есть юнгианское “универсальное глубинное сознание”, где находятся “архетипы”; Шопенгауэр же нашел соответсвие всей своей концепции в учении буддизма. Организация “Друзья Западного Буддийского Ордена” (FWBO) “презентирует буддийские содержания в современных, западных и неэкзотичных понятиях, причем, центральное значение приписывается концепту “индивидуума”” (Baumann, 1995: s. 342), что, по их мнению, должно способствовать сближению буддизма и сегодняшнего западного общества.
Однако не всегда понятия воспринимаемой религии можно адекватно перевести на новый язык: например, в процессе распространения буддизма на Западе менялся характер перевода основных буддийских концептов, который особенно на первых стадиях рецепции соответствовал ценностям и идеям своего времени, возникали дискуссии по интерпретации будийских терминов. В результате реципиируемые концепты оставались в своем первоначальном, неизменном виде в языковой среде культуры-реципиента (например, “карма”, “дхарма”, “нирвана”, “сангха” и др.), либо в ходе перевода образовывались понятия-инновации.
5)
Инновационное развитие: Данный тип связан с процессом модернизации аутентичной традиции, в контексте исследуемого материала - с понятием “буддийского модернизма”. Причем, результат этой модернизации (немецкий буддизм) в ходе адаптации можно рассматривать как “обновление”, собственную форму воспринимаемой религии или как модификацию аутентичной (классической) традиции. Ортодоксы воспринимают подобную модернизацию “еретической” (хотя для буддизма это не характерно), считают ее “новообразованием”, а сами модернисты выдвигают идею “очищения” дегенерировавшей, застывшей традиции и возвращения к истокам.Разновидностями инновативного собственного развития в процессе адаптации буддизма в Германии стали группы Г. Гримма, П. Дальке (соответственно “Древний буддизм”, “Необуддизм”). От всех классических буддийских школ дистанцируется орден “Арья Майтрея Мандала”, созданный Ламой Говиндой (Э. Хоффманном), выдвигая в качестве основной цели стремление содействовать популяризации и акклиматизации буддизма на Западе.
7)
Ассимиляция (уподобление): Понятие “ассимиляции” (от лат. assimulo - делать похожим, уподоблять) в науку ввели в XIX в. представители американской социальной науки (Р. Парк и Э. Берджес), причем, сначала этот термин являлся синонимом “американизации”. Под “ассимиляцией” в культурологии понимается “процесс, в результате которого члены одной этнической группы утрачивают свою первоначально существовавшую культуру и усваивают культуру другой этнической группы, с которой они находятся в непосредственном контакте” (В. Г. Николаев, см.: Культурология ХХ век, 1997: с. 55). Иногда, в случае спонтанного характера ассимиляции, ее рассматривают как форму (фазу) или результат аккультурации (например, Р. Редфилд, Р. Линтон, М. Херсковиц, Р. Л. Билз и др.).Религиовед Каплан, а вслед за ним и М. Бауманн, определяют “ассимиляцию” религии в инокультурной среде как процесс, в котором “прибывающие религиозные элементы чужой культуры встраиваются в свои существующие ритуалы” (Вaumann, 1995: s. 347), то есть с помощью собственного культового действия (воспринимающей культуры) делается попытка восприятия, осмысления и приспособления элементов реципиируемой религиозной традиции к данностям собственной культуры. Со стороны религии, перенесенной в новый культурный контекст, ассимиляция элементов культуры-приемника (не только ритуальных, но и социальных и
др., если расширить определение Каплана) - это неизбежный, но приемлемый компромисс, что отличает ее от “аккультурации”, в ходе которой рассматриваемая религия позитивно включает определенные элементы воспринимающей культуры.В современном немецком буддизме элементы ассимиляции можно вычленить с трудом, ибо буддийские ритуалы в тибетских, дзэнских и др. группах “евробуддистов” тесно связаны с указанными традициями. Кроме того, ассимиляция буддийской практики в Германии долгое время была затруднена пренебрежением к буддистским ритуалам и, соответственно, предпочтением к “книжному” буддизму как “религии разума” вне его реального (ритуального) контекста.
Самыми явными примерами ассимиляции со стороны буддизма в Германии являются случаи восприятия западных понятий: например, употребление в качестве формулы буддийского вероисповедания - “я объявляю себя сторонником Будды” (“я объявляю себя сторонником общины последователей Будды”) и др.
7)
Абсорбция (от лат. absorbeo - поглощать, пожирать) есть восприятие (впитывание) инорелигиозного, не имеющегося в собственной традиции ритуала и интерпретация его в собственном смысле (по определению Каплана); применительно к отдельным религиям ее именуют “исламизацией”, “христианизацией”, “буддизацией”. В отличие от ассимиляции, исходным моментом которой является ритуал воспринимаемой религии, отправной пункт абсорбции - религиозный ритуал культуры-приемника, в котором создается версия культовых действий новой религии. Переинтерпретируются, прежде всего, инокультурные элементы, противостоящие пониманию распространяющейся религиозной традиции; однако абсорпцию нельзя ограничивать сферой ритуалов и культовых действий.Интересен в этом отношении погребальный обряд ранних адептов буддизма в Германии: произносимые в нем речи были связаны с чтением палийского канона и с напоминанием буддиского отношения к смерти. Сама церемония проводилась буддистами-мирянами, не посвященными в сан.
В отношении абсорбции буддизм является “гениальной” религией, ибо он везде был в состоянии абсорбировать инорелигиозные содержания, применяя их к собственным религиозным установкам: например, впитывание местных мифологий буддизмом при его распространении (тибетской, китайской, японской и т. д.), сращивание буддизма с культурпротестными движениями на Западе (с феминизмом, пацифизмом, молодежной контркультурой и др.) и т. д. Яркий пример абсорбции - высказывание Джампы Тседроен (Каролы Ролофф, буддийской монахини Ваджраяны, в прошлом активной евангелистки): “Иисус Христос для меня по буддийскому учению - бодхисаттва, и Бог, подобно Будде, есть просветленная сущность” (цит. по: Wegzeichen, 1994: s. 183).
8)
Аккультурация как один из типов взаимодействия представляет собой “процесс изменения материальной культуры, обычаев и верований, происходящий при непосредственном контакте и взаимовлиянии разных социокультурных систем” (В. Г. Николаев, см: Культурология ХХ век. Словарь, 1997: с. 19), а так же результаты этого процесса (новый культурный синтез). Понятие “аккультурация” созвучно к терминам “культурный контакт”, “ассимиляция”, “транскультурация”. Концепт “аккультурация”, как научный термин, был введен американскими антропологами-этнографами (Ф. Боасом, У. Холмсом, Р. Лоуи, У. Мак-Джи), исследовавшими культуры северо-американских индейцев.Аккультурация в исследуемом нами контексте означает процесс приспособления этноса или религии к чужому культурному полю через принятие норм, обычаев, институтов и т. д., которые позитивно оцениваются (в отличие от компромиссности подобного включения в ассимиляции или стратегии присоединения, включения, аннексии, как в типе “абсорбции”), считаются ценными, полезными, способными помочь собственной религиозной жизни (по Каплану). Турнвальд определяет аккультурацию как “процесс приспособления к новым жизненным условиям” (Baumann, 1995
: s. 351). Берри анализирует ее различные проявления и измерения.В качестве примера аккультурации буддизма в немецкой культуре можно привести выявление в качестве “поля понимания” точек соприкосновения с западной философией, богословием, мистикой: например, близкими к буддийским объявлялись идеи Платона, Экхарта, Бёме, творчество Гёте, романтиков, философия Шопенгауэра, Ницше, теория и практика психоанализа и др. Некоторые немецкие католики (“Дзэн для христиан”) восприняли как полезную в их духовном опыте
практику дзэнских медитаций.В немецком буддизме можно констатировать множество аккультурированных элементов в общественной активности западных последователей этой религии и их организационной жизни: их активность в экологической деятельности, в акциях по защите животных, в профессиональной жизни, демократизм в управлении общинами и центрами, проведение открытых длительных буддийских семинаров с психотренингами и т. д.
9)
Инкорпорация: Процесс переноса (трансляции) религии, ее актуализации в новых условиях и аккультурации, как правило, приводит к появлению собственной версии этой религии. Когда адаптированные, аккультурированные формы воспринятой религии оцениваются равнозначными с родной (общей) традицией этой религии и достойными для перенесения в нее, можно говорить об “инкорпорации”.Так, на современном этапе западные буддисты пытаются инкорпорировать элементы своего “евробуддизма” (“немецкого буддизма”) во всеобщее буддийское движение, хотя до сих пор вопрос о самостоятельности этого феномена открыт. Этот процесс оценивается как вклад, который может внести Запад в развитие буддизма, подобно тому, как отдельные страны в определенное время вносили свои вклады в него (Лама А. Говинда, С. Ветцель, Айя Кхема и др.). Так, по мнению Говинды, динамика дхармы заключается в том, “... что каждая эпоха и каждая страна должны найти собственную форму выражения и собственные методы проповеди для того, чтобы сохранить живой идею Буддизма” (Лама Анагарика, 1993: с. 220), ибо “духовное”, “непосредственный опыт” человека, пережившего просветление, невозможно зафиксировать в застывших фразах.
В качестве подтверждения сказанному можно привести тот факт, что религии являются не “статическими”, а “динамическими” образованиями, и важным аспектом процесса религиозного изменения и ее жизнеспособности является адаптация религии в чужой культуре, доказывающая возможность формирования новой ветви (“колесницы”) буддизма - западной (в том числе и немецкой). Таким образом, религия не застывший организм, она сама в себе содержит механизмы обновления.
Адепты буддизма трудятся над соблюдением дхармы, над сохранением “эссенциального”, “сущностного” в буддийском учении, то есть “слова” Будды, его ”завета”. В то же время они стремятся найти основы собственной идентичности, выявить элементы своеобразия своей интерпретации дхармы, что стало программной установкой Ордена “Арья Майтрея Мандала”, который, сохраняя первоначальный “вкус” учения, стремится охватить достижения всех его исторических разновидностей и способствовать самораскрытию буддизма на Западе.
Немецкий буддизм выдвигает новые организационные формы: такой новой формой буддийской сангхи стал “Немецкий буддийский союз” (DBU), сейчас “Буддийское религиозное содружество”, членами которого являются не отдельные буддисты, а целые организации. Западное определение сангхи как “содружества практикующих” акцентирует демократический подход к структуре общины. В западном (в том числе и в немецком) буддизме по сравнению с азиатским в последнее время заметно усилилась роль и статус женщин (особенно в руководстве буддийскими организациями). Западные буддистки критически оценивают буддийские руководства по медитации, традиционные предания и организационные структуры, которые, по их мнению, сформировались для практикующих мужчин. В русле этой проблематики буддийско-феминистскими кругами на Западе акцентируется постановка многочисленных вопросов (например, ординация женщин, права и обязанности монахинь, их статус и т. п.), решение которых можно было бы инкорпорировать во всемирное буддийское движение.
10)
Минусовые формы контакта (“псевдоморфозы”): Здесь речь идет о несохранении высоты, снижении уровня воспринимаемой религии, дилетантизме, эскапизме, редукции в прямом смысле этого слова, “псевдоновациях”, “псевдоморфозах”, имитациях формы без сохранения глубины содержания. В качестве примеров можно привести поиски нирваны в западном варианте, прежде всего, наслажденческую культуру извлечения (популярность тантризма как особого рода сексуальной практики, вольные эксперименты битников с восточными образами и формами и т. д.), когда отдельные аспекты воспринимаемого опыта вычленяются из целостности буддийского опыта и гипостазируются, теряя свой первоначальный смысл.Минусовые формы контакта проявлялись (явно и неявно) на каждой фазе рецепции буддизма в Германии: дилетантизм бюргерской рецепции, “всеядность” декаданса, “салонный” буддизм начала ХХ в., негативное восприятие наследия Махаяны до 50-х гг. ХХ в., “Дзэн для христиан”, феномен “тоталитарных” сект (общины Оле Нидала и др., процветающие в том числе и в России) и т. д.
Однако даже минусовые формы контакта играют свою роль в процессе взаимодействия культур, открывая путь к осмыслению друг друга. Любительский (неакадемический и в этом смысле дилетантский) интерес к “иному” расчищает дорогу другому, более глубокому восприятию.
11
) Диалог. “Диалог культур”, как тип их взаимодействия, представляет собой общение на равных на основе взаимопонимания. Диалог возможен только на основе уважительного “прочтения” друг друга и взаимной открытости. Европоцентризм и востокоцентризм, как выражение культурного снобизма и гипертрофированной самодостаточности, есть формы монологизма. Диалог - инструмент, “зеркало” самопознания культур. Посредством диалога возможен поиск путей преодоления собственной маркированности, “вчувствования” друг в друга через со-измерение и в-слушивание в мир “другого”. Всю современную историю рецепции буддизма в Германии пронизывает неспешный и вдумчивый “диалог” Запада и Востока.Именно этот тип взаимодействия культур позволяет снять многовековую оппозицию (дихотомизм) Запада и Востока. Будущее за новым духовным синтезом, попытки которого были сделаны и раньше (Гёте, Гессе, Шопенгауэр и мн. др.), на основе “диалога культур”, глубокого взаимопонимания и прислушивания друг к другу.
12)
“Великие Посредники”. Сам процесс переноса (трансляции) религии в контекст чужой культуры мог осуществляться различными путями: через посредников-миссионеров или носителей этой религии, эмигрантов (переселенцев или находящихся в изгнании), посредством текстов (распространяемых миссионерами или реципиентами). В Германии перенос буддизма на первых этапах рецепции осуществлялся посредством философских и литературных произведений, перевода сочинений буддийского (сначала палийского) канона. Трансляторами, “Великими Посредниками”, стали сами немцы (переводчики, путешественники, философы), а не азиаты-миссионеры, развернувшие активную деятельность в Европе лишь с середины 60-х гг. ХХ в.Таким образом, “Великими Посредниками” в обращении Запада к буддизму стали не столько буддологи, интерпретаторы буддийского канона, переводчики, сколько философы, писатели, поэты, вдохновленные идеями этой религии и популяризовавшие ее: в том числе Г. Гессе, Р. Роллан, Т. Манн, Э. Канетти, Г. Малер, Х. Л. Борхес, Л. Говинда (Э. Л. Хоффманн) и мн. др. Какие черты воплощали в себе эти натуры? Словами Р. Роллана можно сказать, что эти люди имели “нравственное предрасположение к мистическому сосредоточению”, обладали “жадной восприимчивостью”, способностью к воплощению в воспринимаемое (Р. Роллан об У. Уитмене, см.: Р. Роллан, 1991: с. 254). Оставаясь в лоне собственной культуры, они “насыщали” ее инокультурными инновациями, и, наоборот, глубоко чувствуя и переживая “инаковость”, переосмысляли опыт собственной культуры (самопознание через несовпадение).
Таким образом, “Великие Посредники” обладают “лишним измерением” (термин Гессе) расширенного “пограничного” сознания, “западно-восточной сотканностью” натуры (определение Роллана), отсутствием внутренней скованности и ограниченности, способностью соединить “свое” и “чужое”. Они стали мостом, связующим берега Запада и Востока. Восток дал им возможность глубоко осознать “самость” собственной культуры и в своем культурном космополитизме возвысится до универсальных, общечеловеческих ценностей.
Использованная литература:
Берснев П. В.
(РХГИ, отделение религиоведения)Абсолют и дуальный мир
Восприятие как аподиктическое данное, или Субъект-бабочка, приколотый к объектам своими воспринимающими способностями
Религиозно-философская мысль и Запада и Востока так или иначе вставала перед одной фундаментальной проблемой: каково отношение субъекта знания (и восприятия) и объекта этого знания, есть ли что-нибудь за пределами этой оппозиции, каков метод постижения этого запредельного состояния и, если такое состояние является онтологическим основанием бытия, то каков же тогда статус эмпирического "я" человека.
Философия буддизма совершила колоссальную работу по разрешению этой проблемы. Возможно, глубокое понимание буддизмом данной темы обусловлено обнаружением коренных заблуждений человечества, а именно - ложного представления о "я" человека, эмпирической личности (пудгалы). Воспринимая себя как субстанционально существующую личность, человек далее начинает соотносить себя с родом людей и видом живых существ, а мир, в котором он живет, начинает осознаваться как существующий сам по себе, открывающийся в феноменах и имеющий нераскрытую, существующую саму в себе, ноуменальную сторону. В зависимости от отношения эмпирической личности, явления "внешнего" мира награждаются атрибутами (этическими и эстетическими). И вот схема для кармически, аффективно обусловленной деятельности готова. Так "первый сановник в Я" - неведение, существующее с безначальных времен, продолжает вращать колесо сансары. Любовь к Я, которого нет, субъект-объектная дуализация мира порождает иллюзии сансары.
Также обстоят дела и с "объективным" миром. То, что кажется бесспорным при поверхностном взгляде, при более внимательном рассмотрении теряет свою фундаментальность. Оказывается, что ничто само по себе не является ни хорошим, ни плохим. И лишь процесс мышления присваивает явлениям определенные ярлыки. Обнаруживается, что объективное существование вещей носит не аподиктический, а проблематический характер. Все вещи ("шесть видов пыли" на языке буддизма), посредством воспринимающих и интегрирующих органов ("шести корней"), обретают бытие в нашем сознании. Убери зрение, слух, тактильные и вкусовые ощущения, обоняние, ментальное восприятие - что в таком случае останется от предмета? Даже его "объективное существование" - это всего лишь концепция субъекта (его ментальное ощущение). Можно сказать, что "вещь в себе" существует лишь в концепциях; убери эти концепции - что остается от вещи в себе? Даже если мы представляем бытие вещи без нашего участия, это будет всего лишь наше представление. Вещь в себе - всего лишь концепция о не воспринятых сторонах явившейся вещи. Поэтому мы не можем говорить о существовании или не существовании вещи отдельно от существования или не существования ее в нашем сознании; правомерно лишь говорить об объектах восприятия (интенциональных объектах, говоря языком феноменологии) и мнениях (сигнитивные, или обозначающие акты) по поводу этих объектов. На Западе к идее зависимости эмпирического существования, "объективной реальности" от сознания приходит Джордж Беркли. Когда мы ведем речь о том, что что-либо или кто-либо ЕСТЬ
, мы имеем в виду что ЧТО-ТО или КТО-ТО явился перед нашим взором (чувственным или умственным), стал продуктом, объектом нашего восприятия. Что-то есть - значит оно воспринимаемо. Невозможно помыслить ощущаемые вещь или предмет независимо от их ощущения или восприятия. О существовании чего-либо возможно судить лишь по его признакам. "Nullius nulla sunt praedicata" (Нет никаких признаков у того, что не существует). Но любой признак, любой предикат - это результат той или иной воспринимающей способности, вне которой нет ни этих признаков, ни вещей в себе. Если мы не имеем способности воспринимать цвет, мы не сможем сказать, например, что лист зеленый. Значит, благодаря воспринимающим способностям мы и можем судить о том, что что-то есть или чего-то нет (или что-то есть что-то, что-то не является чем-то), т. е. выносить положительные и отрицательные суждения. "Есть" - всегда для кого-то есть. И это, можно сказать, общая схема различающего сознания. При этом Беркли, полагая, что все вещи (ideas or sensations) существуют только в уме, заявил, что нет иной субстанции, кроме воспринимающего, мыслящего и волящего духа (сотворенных духов и самого творца). Логическое развитие западной мысли о воспринимающем субъекте и воспринимаемых объектах мы видим в феноменологии Гуссерля. Он пришел к выводу, что всякий объект является интенциональным; например, если я смотрю на дерево, растущее во дворе, то составной частью этого акта будет не только само наблюдение, но и опыт в целом, т. е. дерево, видимое мною. Иными словами, мы имеем дело лишь с феноменами нашего сознания, составляющими который являются и объект и субъект. Являющиеся духу феномены не отделены от него, а составляют с ним единое целоеС помощью метода трансцендентальной редукции Гуссерль, а ранее Декарт через процедуру методического сомнения, пришли к выводу о несомненном существовании самого сомневающегося субъекта. Но, скорее всего, аподиктическим является факт самого сомнения, рода ментальной активности, акта обработки воспринимаемых (воспринятых) данных. Т. о., несомненным является лишь сам акт восприятия, а явления, стоящие по ту и по эту его сторону (субъект и объект), можно считать логически производными. Итак, можно сказать, что само по себе по себе сознание возникает посредством акта перцепции.
Все это имеет непосредственное отношение к самоотождествлению с явлением, воспринимающим другое явление в акте саморефлексии. Можно задать вопрос самому себе: а кто же в итоге тот незнакомец, меняющий маски, воспринимающий себя как явление? Хитрость этого вопроса состоит в том, что ответив на него, причем не важно каким этот ответ будет, мы породим еще одно явление, с которым срастемся в самоотождествлении. Это будет что-то вроде бесконечной матрешки - скидывая одну личину, мы будем оказываться (обнаруживать себя) в другой. Обнаружение незнакомца - ловушка различающего ума, так как обнаруженное есть явленное, а явленное подразумевает зрителя. Если же мы хотим обнаружить, явить себя, мы всегда будем находить явленное для нас, а значит - очередной объект восприятия. "Я" не может быть объектом восприятия, иначе должен существовать зритель, воспринимающий свое "Я" как объект. И в таком случае о "Я" как о субъекте речи идти не может. "Я" становится производной моего ума. Следовательно, "Я" (в значении субъекта) не воспринимаемо
, а значит и на вопрос о его существовании нельзя ответить положительно; его нельзя пощупать, увидеть, понять, понюхать, а, значит, и сказать что-либо о его существовании. Воспринимающий не может воспринимать себя как воспринимающего субъекта, так как зритель не может одновременно быть воспринимаемым объектом для себя. Он может видеть отражение в зеркале, свое тело, но все это воспринимаемые объекты, следовательно, зритель остается за кадром; зритель не есть все это. "Природа духа или того, что действует, такова, что он не может быть воспринят сам по себе, но лишь по производимым им действиям" (Джордж Беркли). Поэтому существенным является заблуждение, коренящееся в концепции " Я есть иное", "субъект есть объект", "субъект есть совокупность всех объектов", "я есть все", "я есть всё", "всё есть я". Это способ размазывания "себя" по "вселенной", и приклеивания несуществующего Я к воспринимаемому миру."Я есть не он, не они, не это" - начало игры того, что стоит за субъект - объектной оппозицией. Субъект, отождествленный с объектом, это окончательное поражение в этой игре. "Все тождественно" и "за гранью различий присутствует НЕЧТО" - принципиально разные вещи, и это очевидно. Но на практике эти концепции часто не различают и принимают как одно и тоже. В результате, когда субъект отождествляется с объектом, он начинает испытывать такие состояния как, например, "переживание смерти". Наблюдая разрушение воспринимаемых им тел и энергетические метаморфозы, он полагает, что это исчезает он сам.
Итак, западная философия, в частности, феноменология, пришли к осознанию того факта, что всё, с чем мы имеем дело в мире эмпирии - это "неслиянно и нераздельно" дуалистически существующий субъект-объектный опыт (интересно отметить, что задолго до западных открытий это уже было известно на Востоке, а именно в школе йогачары (виджнянавады). Субъект-объектная оппозиция, образуемая эмпирическим восприятием, - это предел трансцендентальной аподиктической данности. И это же - предел рационального философского исследования. За этой границей открывается мир трансцендентного, но это уже область мистического опыта и предмет религиозной веры для тех, кто этого опыта еще не имеет. НЕЧТО, запредельное дуальному миру невозможно описывать в человеческих категориях. И достаточно представить себе опыт за пределами ощущений, чтобы понять о чем идет речь. А это и есть Абсолют.
“Я” и Абсолют в теории Татхатагарбхи. Корреляции с другими теориями
Даже само по себе неосмысленное расслоение на субъекта и объекты рассматривается в теории Татхагатагарбхи как неведение. Неосознанное восприятие себя как субъекта, воспринимающего объекты (правритти виджняна) - коренное омрачение. Подобная "деятельность" Единого Сознания (экачитта) влечет за собой субстанциализацию субъекта и объектов, им воспринимаемых, непонимание относительности существования "я" и "не-я мира", цепляние за относительно существующее и, при утрате тех или иных предметов этого относительно существующего мира, ощущение боли и страдания.
Теория анатмана в таком случае отчетливо лишена нигилизма. Статуса независимой субстанции не имеет лишь "Я" как субъект, воспринимающий объективный мир(правритти виджняна). Так как и субъект и объективный мир - лишь результат деятельности "сверх субъект - объектного Нечто". Следовательно и "я", и объективный мир -
это содержание этого недвойственного Единого, не имеющего в действительности никаких оппозиций себе, ибо все оппозиции присутствуют в нем самом (но не являются его составляющими). А значит, на самом деле нет ни воспринимающего субстанциального субъекта, ни воспринимаемой субстанциальной объективной действительности. Недвойственное Единое лишено пансубъективизма. В теории Татхагатагарбхи и субъект, и объект - "продукт деятельности" Единого Сознания, в теории йогачары это продукт алайя-виджняны (сознания-сокровищницы). Единое Сознание не является оппозицией субъект-объектного бытия, иначе Единое Сознание выступит как очередной субъект. Единое - не объединенное и не отчлененное; это нечто совершенно иное.Дхармы, элементарные психические состояния, можно назвать субъект-объектными образованиями ("человек, смотрящий на солнце"), фундаментом, основанием которых является Единое Сознание. Без него никаких дхарм не существует. Каждое новое мгновение исчезает и возникает новое образование, новый субъект и новый объект, образуя поток (сантана). Субъект не существует вне объекта, а объект - вне субъекта. Но единое сознание не обусловлено ничем.
Единое Сознание характеризуется в "Трактате о пробуждении веры в Махаяну" следующим образом: "Ее истинная сущность - всесознающее сознание, покойное и чистое по своей собственной природе и характеризующееся как вечность, блаженство, истинное "я", чистота". Истинное "Я" (Атман) существует в действительности, в отличие от "я" относительного - субъекта, воспринимающего объективный мир. "Она подобна освежающей прохладе, будучи неизменной и абсолютно свободной. Она наделена таким количеством благих качеств, которое превосходит число песчинок в Ганге, и эти качества не отличны от нее, не существуют отдельно от нее, не разъединены с ней и не отличимы от непостижимой мыслью Дхармы Будды".
Очевидна определенная корреляция между Единым Сознанием, Пустотой, Сознанием-сокровищницей, изначальным вниманием, наитончайшим слоем Ясного Света и игрой фундаментальной основы - высшими реальностями разных буддийских школ. Далай-лама XIV говорит: "… великий мастер Дзогчена Долруп Жигме Тенпай Нима в своем "Общем изложении Гухьягарбхи" утверждает, что такое чистое восприятие всех вещей и событий сансары и нирваны как "игры" фундаментальной основы и есть то, что в терминологии школы Ньингма зовется ригпа, или "изначальное внимание". Такое изначальное внимание есть основа и источник; все, что происходит и является на просторах реальности - сансары и нирваны, - проявление или "игра" внимания. Таким образом, изначальное внимание отождествляется с наитончайшим слоем Ясного света.
Философия мадхьямики тоже говорит о пустоте как источнике всех обусловленных явлений. В некотором смысле пустота подобна творцу, поскольку все явления могут рассматриваться как различные манифестации этой высшей природы, составляющей подоплеку всего сущего. Подобным же образом, согласно объяснениям традиции сакья и мастера Додруп Жигме Тенпай Нимы, все явления, возникающие и воспринимаемые в сансаре и нирване, суть проявления, или "игра", изначального внимания, то есть фундаментальной основы. Это внимание, или, иными словами, тончайшее сознание Ясного света, - вечно в своей длительности, и его сущность не загрязнена омрачениями. Поэтому в сути своей оно чисто и ясно. С этой точки зрения понятна возможность распространить воззрение чистоты на все явления, представляющие собой, в сущности, "игру" фундаментальной основы. При этом не следует упускать из виду, что обе вышеупомянутые интерпретации даны с точки зрения Тантр высшей йоги.<...> Окружающую среду и внешние явления следует понимать как игру фундаментального сознания, а не как его природу".
Небезынтересно здесь привести цитату из статьи в журнале "Гаруда", где затрагивается проблема "проговаривания" трансцендентного: "Систематизировать накопленное выпало на долю Нацог-Рандола (Лончена Рабжама, 1308-1363). Терминологические ряды, созданные до него и им самим, стали теоретической основой ньингмапы и вошли также в другие школы. Порой не просто понять термины этих школ, будь то сакьяпа или кармапа, без обращения к сочинениям авторов дошкольного периода. Не освоить буддийского языка этого периода, значит на современном этапе замкнуться в узкие рамки школ и стать попросту сектантами, что сейчас и происходит. Такая ситуация приводит к бесплодному разобщению и даже к конфликтам. И это не ново, ибо, например, во времена Тисрондэцана (756-797) одна школа—чань (Хэшан-Махаяна)—была запрещена, а другая—путь постепенного постижения истины (Камалашила)—получила официальное одобрение. При той сложной ситуации показательна позиция
Интересно, что знаменитый учитель Падмасамбхава, укоренивший буддизм в Тибете, всегда оставался в стороне от политизированных межконфессиональных дискуссий, которые привели в итоге к запрету школы чань. В своих сочинениях Падмасамбхава дал прекрасный пример универсального подхода, пример интеллектуальной свободы, открытости и интеграции: "Слушайте, о счастливые дети благородных семейств! Ум—много о нем говорят, много болтают... Да либо вообще не понимают, либо понимают превратно или однобоко. А как он есть на самом деле, не понимает никто. Поэтому и множатся всякие учения, столько, что и не счесть... Если это сверкающее осознание, которое называют умом, рассматривать как сущее, то оно не существует. Если рассмотреть как источник, то сансара и нирвана и все разнообразие блаженства и страдания возникли от него. Если рассмотреть ум как объект желания, то 11 колесниц стремятся к нему. Имен же ему столько, что и не счесть. Одни зовут природой ума—ум как таковой. Тиртики зовут атман—самость. Шраваки наставляют об анатмане— отсутствии Я. Читтаматрины называют его читтой—умом. Кто зовет Праджняпарамитой—Запредельной Мудростью. Кто зовет Сугатагарбхой—семенем Сугаты. Кто зовет Махамудрой—Великий Знак. Кто зовет одиноким тигле— уникальная сфера. Кто зовет Дхармадхату—дхармовое пространство. Кто зовет Алая—основа всего. Кто зовет обычным осознанием".
Существует также некоторая корреляция Единого Сознания и Тэты (статика жизни) в формулах, вероятно полученных на основании собственного опыта, современного американского исследователя духовного мира Л. Рона Хаббарда. Приведу лишь несколько цитат из аксиом Хаббарда: "Источником жизни является статика, которая имеет особые свойства, характерные для нее". "Статика жизни не имеет массы, движения, длинны волны, положения в пространстве и во времени. Она обладает способностью постулировать и воспринимать". "Абсолютная истина есть статика. Статика не имеет массы, значения, не обладает подвижностью, не имеет длины волны, времени, расположения в пространстве, пространства. Техническое название этого - "основополагающая истина". "До начала была Причина, и единственной целью Причины было создание следствия. От начала и навеки есть решение, и это решение - БЫТЬ. Первое действие бытийности - это принять точку видения. Второе действие бытийности - разместить на расстоянии от точки видения точки для видения - точки протяженности" Возможно, что под точкой видения Хаббард подразумевал именно субъекта, воспринимающего объекты. Число таких воспринимающих точек может быть бесконечным. Как бесконечным может быть и число воспринимаемых точек, которые в конечном итоге образуют "объективный мир". Тэта, таким образом, оказывается основанием всех игр, которыми является жизнь.
Абсолют
Можно сделать следующий вывод, объединив разные описания недуальной реальности. Абсолют находится за границей эмпирического существования. Это источник существования всех и всего. Это безотносительная основа всего. Все, что есть - так или иначе воспринимаемо. Но абсолют никто не может воспринимать, так как он не может быть объектом восприятия, он - основа всякого отдельного субъекта, воспринимающего объективный мир. Абсолют - это не "материал" всего сущего, также как небо - не материал для облаков, плывущих по нему, также как зеркало - не материал для
вещей, в нем отражаемых. Абсолют - это основа для всего, но это не есть всё. Всё существует относительно абсолюта, который сам не существует. Это абсолютная основа абсолютно всех субъектов, воспринимающих и управляющих объективным миром. Очень важно не допускать ошибку, связывая с Абсолютом идею монизма. Когда Абсолют хотят противопоставить множественности эмпирического мира как нечто единое, одно, происходит попытка взглянуть на Высшую Реальность сквозь рациональную категорию количества. А это-то как раз и неприемлемо, так как Абсолют трансцендентен рациональному восприятию. Различия в толковании абсолюта не должны приводить к распрям. "Сверхсущее единое-благо" неоплатоников, "Бездна" Мейстера Экхарта, Возлюбленная Истина суфиев, Айин, абсолютное Ничто каббалы, Атман-Брахман адвайты-веданты, Дхармакайя и татхагатагарбха буддизма - во всем этом угадываются общие черты, хотя, конечно, из этого нельзя делать категорический вывод о том, что везде речь идет об одной и той же реальности. Но категорично нельзя утверждать и обратное. Очевидно, различаются прежде всего технологии достижения Абсолюта и языки описания высших трансцендентных состояний."...наивысшее великое пробуждение
Изначально недвойственно.
Но нет чисел посчитать
Различные пути его достижения".
(“Избранные сутры китайского буддизма”. СПб, "Наука", 1999.
Сутра Совершенного Пробуждения
Литература
Гунский А. Ю.
(Самарский государственный университет)Женщины в раннем буддизме
(по материалам палийского канона)
Индийское общество времен складывания палийского канона (4 -2 вв. до н. э.) было крайне патриархальным, склонным во всём подчёркивать превосходство мужчин. Приниженное положение женщин в обществе закреплялось в брахманической литературе, достаточно вспомнить известное изречение Ману: “День и ночь женщины должны находиться в зависимости от своих мужчин... Отец охраняет её в детстве, муж охраняет в молодости, сыновья охраняют в старости; женщина никогда не пригодна для самостоятельности” (Ману, 9. 2-3). Религиозные потребности женщины в ортодоксальном брахманизме также не принимались во внимание. Женщинам, наряду с шудрами, запрещалось слушать и изучать Веды, самостоятельно выполнять какие-либо обряды, посты и обеты. Главный религиозный долг женщины - это служение мужу: “Муж, даже чуждый добродетели, распутный или лишённый добрых качеств, добродетельной женой должен быть почитаем как бог” (Ману, 5. 154).
Ранний буддизм продемонстрировал принципиально иной подход к женщинам. Будда прямо признавал, что для достижения Просветления - конечной цели учения - не существует никакой разницы между мужчинами и женщинами, при условии, что и те и другие станут монахами. В соответствии с этим Будда, после некоторых колебаний, основал женскую монашескую общину, во главе которой стала Махапраджапати, тётка Будды, в детстве заменившая ему мать. Однако вступление женщин в сангху было обставлено несколькими дополнительными условиями. Они известны под названием “Восьми правил” (garu-dhamma) и состоят в следующем.
1. Монахиня, даже если она провела в монашестве сто лет, должна оказывать знаки уважения монаху, даже если он только что принял посвящение.
2. Монахини не должны проводить “летнее отрешение” сезона дождей в месте, в котором нет монахов.
3. Каждые две недели монахини должны посещать общину монахов для проведения церемонии упосатхи (общего собрания монахов) и получения инструкций и поучений от монахов.
4. После окончания “летнего отрешения” сезона дождей монахини должны участвовать в специальном собрании обеих общин для обсуждения поведения монахов и монахинь.
5. Монахиня, совершившая нарушение из разряда сангхадисеса (тяжёлых проступков) должна подвергнуться наказанию в течении двух недель в обеих общинах - мужской и женской. (Для монаха срок наказания составлял шесть дней и проходил только в мужской общине).
6. До посвящения в монахини кандидатка должна пройти двухлетний испытательный срок, и затем посвящение должно быть проведено в обеих сангхах - мужской и женской. Для монахов подобный испытательный срок не предусматривался и посвящение проводилось только в мужской сангхе.
7. Монахиня не должна оскорблять или порицать монаха никаким образом, даже косвенно.
8. Монах может поучать монахиню, но монахиня никогда не должна поучать монаха или давать ему какие-либо советы.
Рассказ об основании женской сангхи и эти восемь дополнительных правил содержатся в 10-й главе Чулавагги. В тексте этого раздела правила сформулированы достаточно категорично: “эти правила должны уважаться, соблюдаться и никогда не нарушаться в течении жизни”; однако следует заметить что большинство этих правил входят в состав дисциплинарных правил поведения для монахинь (Bhikkhuni-Patimokkha) и там они включены в раздел Пачиттия, т. е. лёгких нарушений, которые исправляются простым признанием своей вины. Женские монастыри действительно находились под покровительством мужских, однако во многом подобное покровительство было просто необходимо для защиты монахинь от грабителей или насильников (подобные случаи достаточно часто упоминаются в каноне).
Жизнь монахинь подвергалась несколько большей регламентации, чем жизнь монахов, что отразилось в большем числе правил Пратимокши для монахинь (311 правил для женщин против 227 правил для мужчин в традиции тхеравады). Большинство дополнительных правил касались лёгких нарушений - женских украшений и одежды, правил посвящения женщин в сангху и выбора наставницы, правил
публичного поведения монахинь и тому подобных второстепенных предметов. Реально главные ограничения накладывались на сексуальное поведение монахинь, так, те проступки (например, прикосновение к лицу другого пола), которые для монахов включались в раздел Сангхадисеса - тяжёлых нарушений, которые могут быть исправлены, для монахинь относились к разряду Параджика - тяжёлых нарушений, которые требовали безоговорочного исключения из сангхи. Не следует думать, что это происходило из-за того, что Будда считал женщин более склонными к сексуальным наслаждениям, чем мужчины - взгляд, весьма характерный для брахманистской литературы. Исследователи обратили внимание на то, что Будда описывал влечение мужчины к женщине и женщины к мужчине в одинаковых терминах. Большая строгость подобного рода правил для женщин скорее преследовала внешние цели. Во-первых, в патриархальном индийском обществе буддийские монахини, оставившие домашние обязанности и посвятившие себя поиску освобождения, вызывали значительно большее неодобрение, чем мужчины, которым это, в принципе, разрешалось. Поэтому монахини всегда могли найти около себя достаточное количество недоброжелателей и должны были держать себя строже. Во вторых, монахиня могла забеременеть, и это вызывало значительные проблемы в общине как в моральном, так и в чисто организационном плане. Видимо, это же соображение было главным при назначении дополнительного испытательного срока перед посвящением в монахини. В каноне упоминаются случаи, когда женщины становились монахинями, уже будучи беременными.Что заставляло женщин вступать в буддийскую сангху? В идеальном случае главной и единственной причиной был поиск конечного освобождения, нирваны, однако на практике дело обстояло несколько сложнее. Интересные свидетельства этому остались в “Тхеригатхе” (“Стихи старших монахинь”). В отличие от более абстрактных “Стихов старших монахов” (“Тхерагатха”), стихи женщин-монахинь обращают на себя внимание своими непосредственными чувствами.
Весьма показательно стихотворение монахини Мутты (Therigatha 1. 11) (вольный перевод с английского):
Так свободна!
Так совершенно свободна я стала!
Свободна от трёх изогнутых вещей:
от ступки, пестика,
горбатого старого мужа.
Вырвав с корнем жажду,
что ведёт к становлению,
я свободна от старости и смерти.
Пестик, заплесневший старый горшок и бесстыдный муж упоминаются и в других стихах (Therigatha 2. 3). Заметим, что подобные чувства несколько противоречат предписаниям ортодоксальных брахманских теоретиков о почитании мужа как бога.
Одной из самых распространённых причин ухода женщин в монахини была смерть детей (Therigatha 3. 5, 6. 1, 6. 2 и др.). Смерть сына, как показывает история монахини Кисагатами, была особенно чувствительна, так как положение женщины в семье зависело от наличия мужского потомства. Согласно традиционному комментарию к “Тхеригатхе”, в женской общине существовала большая группа монахинь, вступивших в сангху под впечатлением от потери своих детей. Руководила этой группой монахиня Патачара, сама пережившая смерть мужа и двух маленьких детей.
Богатая куртизанка Амбапали причиной своего обращения в буддизм называет старение и увядание своего прекрасного тела (Therigatha 13. 1). Среди авторов “Тхеригатхи” были и другие куртизанки - Аддхакаси, Вимала. Положение таких женщин в индийском обществе отличалось особенной неустойчивостью, несмотря на их видимое богатство.
История Соны, матери десяти детей, в какой-то степени напоминает историю короля Лира. Её муж уже в достаточно пожилом возрасте ушёл в буддийские монахи, оставив Соне всё своё богатство. Она же решила разделить имущество между детьми, достаточно взрослыми в то время, с тем условием, что они будут содержать её, а она посвятит себя религиозной жизни. Однако очень скоро дети стали считать престарелую мать обузой и начали всячески третировать её. (По поводу Соны Будда заметил, что благодарные люди появляются в этом мире так же редко, как и Полностью Просветлённые). В конце концов Сона сама вступила в буддийскую сангху, и, хотя её пребывание там проходило небесконфликтно, в конце концов она достигла просветления.
В этой истории обращает на себя ещё один момент - своеобразное положение женщины, чей муж стал буддийским монахом. Такая ситуация ранее не встречалась в индийском обществе. Положение женщины, видимо, в значительной степени совпадало с положением вдовы, а это одна из самых худших вещей, какая может случиться с женщиной в индийском обществе. Возможно, именно поэтому в каноне достаточно часто упоминаются случаи, когда оба супруга становились монахами. Такие случаи обычно рассматриваются как
примеры супружеского согласия и верности, но, может быть, у женщины и не было другого выхода.В некоторых случаях, особенно тогда, когда сангха уже стала богатой и уважаемой в обществе, принятие монашества стало средством проживания и достижения почётного социального статуса, тем более что порядки в буддийских общинах были достаточно мягкими по сравнению с другими неортодоксальными движениями того времени. Пример подобного рода - история монахини Чанды, чьи стихи также сохранились в “Тхеригатхе” (Therigath
a 5. 12). Эта женщина, потеряв мужа и всех родственников, семь лет побиралась по домам, страдая от холода, жары и голода. Однажды она увидела монахиню, которой все с радостью подавали пищу и питьё, и упросила её взять к себе в ученицы. После этого, избавленная от безысходной нужды, она приложила все силы для постижения буддийского учения. Следует заметить, что Будда не возражал против вступления в сангху такого рода людей. Он надеялся, что пребывание в сангхе, вместе с добродетельными монахами и монахинями, поможет и таким людям достичь определённого духовного роста. Та же монахиня Чанда благодаря постоянным усилиям достигла Просветления и стала одной из самых уважаемых монахинь.Жизнь женщин в сангхе не была сплошным праздником. Наряду с бытовыми лишениями, необходимостью постоянно жить в общине, находить общий язык с другими женщинами, монахинь часто не покидали и внутренние сомнения в правильности избранного пути. Эти сомнения остались зафиксированы в “Бхиккхуни-самъютте” - небольшой главе “Самъютта-никаи”
. В состав “Бхиккхуни-самъютты” входят десять небольших сутр, построенных по одному образцу - монахиня встречается с Марой, буддийским демоном-искусителем, и тот задаёт ей какой-либо провокационный вопрос. Этот сюжет не следует понимать слишком буквально - Мара в буддийской традиции скорее олицетворяет внутреннюю слабость и неуверенность, чем какое-либо антропоморфное мифологическое существо. Одно из самых частых искушений заключалось в том, что надо наслаждаться жизнью сейчас, пока ты ещё молода, чтобы потом не раскаиваться в упущенных возможностях (сутры №№1, 4 и 5). Другие соблазны: желание иметь детей (сутра №3), сомнение в том, что женщина вообще может добиться просветления (сутра №10), сомнение в учении Будды и желание перейти в другое учение (сутра №8). Один из вопросов - о том, что женщине небезопасно заниматься созерцанием в уединённых местах, в которых она может подвергнуться насилию ( сутра №5). В данном случае сомнение разрешается тем, что монахиня уже овладела сверхъестественными способностями настолько, что может противостоять любым насильникам. Однако примечательно, что этот вопрос Мары был обращён к монахине, изнасилованной вскоре после посвящения, то есть сомнения подобного рода не были беспочвенными. Наряду с такими более или менее бытовыми вопросами у монахинь возникали и доктринальные сомнения, прежде всего относительно того, кто сотворил мир и все живые существа (сутры №9 и №10). Будда, как известно, отрицал существование какого-либо бога-творца этого мира, поэтому для ответа на данный вопрос требовалось хорошее знание буддийского учения. Это вообще один из самых распространённых вопросов, которым Мара пытается смутить как монахинь, так и монахов. Тем не менее монахини дают все нужные ответы, и посрамлённый Мара, печальный и разочарованный, исчезает с места искушения. Собственно, важны не столько ответы: во всех сутрах подчёркивается, что победа над Марой происходит тогда, когда женщина узнаёт, распознаёт его, т. е. осознаёт свои сомнения и колебания. В этом проявляется опыт “сати” - внимательности, осознанности - одной из ступеней буддийской практики.Женщины не только вступали в буддийскую общину в качестве монахинь, но и активно поддерживали сангху как мирские последовательницы учения Будды (упасики). Буддийская община в широком смысле состояла из четырёх частей: монахов, монахинь, мирян-буддистов и мирянок-буддисток. Функционирование монашеских общин полностью зависело от материальной поддержки мирян, и женщины-мирянки играли здесь не последнюю роль. Главное, чем расплачивались буддийские монахи за материальную поддержку - это открытая публичная проповедь, обращённая ко всем слоям индийского населения, в том числе и к женщинам. Если мирянин или мирянка приглашали монаха на угошение, то после его окончания монах произносил поучение, поясняющее какие-либо положения учения Будды. При этом речь могла идти не только о каких-либо моральных наставлениях, но и о достаточно сложных отвлечённых вещах. Характерный пример такого рода содержится в “Вопросах Милинды”, где верующая мирянка приглашает двух монахов на трапезу, после чего монахи произносят для неё проповедь по абхидхарме (самой сложной части буддийского учения!).
Крайне интересный образец взаимодействия монаха и верующей мирянки представляют отношения Будды с царицей Малликой, супругой царя Пасенади, правителем государства Кошала. Маллика обрела веру в Будду ещё до замужества, после первой же встречи с ним, и оставалась ревностной буддисткой-мирянкой до конца своих дней. Она регулярно раздавала подаяние буддийским монахам и построила большой зал
для сангхи, в котором проводились религиозные дискуссии (Ангуттара-никая. 4. 197).Своего мужа она также обратила в буддийскую веру. Произошло это следующим образом. Однажды царю Пасенади приснилось шестнадцать тревожных снов. Его домашний жрец-брахман объяснил их влиянием злых духов и потребовал совершить большое искупительное жертвоприношение. Однако Будда, приглашённый Малликой, истолковал их в благоприятном для царя смысле. После этого Пасенади стал буддистом - мирянином (Джатаки 77 и 314).
Будда никогда не оставлял заботами и вниманием свою верную сторонницу. Во время супружеских ссор он мирил супругов, неизменно защищая царицу. Будда рассказывает царю об их любви в прошлых жизнях и о том, как они страдали в разлуке (Джатаки 306 и 504). В другой раз Будда рассказывает историю о том, как в одной из прошлых жизней Маллика не покинула своего возлюбленного, даже когда тот заболел проказой (джатака 519).
Будда произнёс и посмертную проповедь после кончины Маллики (Ангуттара-никая 5. 49). После её смерти царь Пасенади каждый день ходил к Будде, чтобы узнать о посмертной судьбе жены.
Очевидно, что в данном случае Будда действовал как образцовый “семейный священник”, проникший в семью через жену (женщины, как известно, отличаются повышенной религиозностью), посвящённый во все перипетии супружеской жизни и осуществляющий духовное руководство своими приверженцами. В рамках традиции подобное поведение не может рассматриваться как случайность, отражающая реальные отношения Будды с конкретной семьёй, но скорее представляет образец взаимодействия монаха и верующей мирянки, образец, которому в той или иной степени должны были следовать все буддийские монахи.
Таким образом, хотя отношение раннего буддизма к женщинам, возможно, не было идеальным с современной точки зрения, оно всё же предоставляло женщинам гораздо большие возможности для духовного роста, чем какое-либо другое современное ему учение. Те женщины, которые были способны полностью оставить мирскую жизнь, могли стать монахинями и посвятить себя поиску освобождения уже в этой жизни. Тем же, кто был ещё не готов к таким радикальным решениям, буддизм предлагал обширное поле религиозной деятельности и нравственного совершенствования, в надежде обрести благоприятное следующее рождение и добиться освобождение позднее.
Можно не сомневаться, что поддержка женщин была одной из главных причин быстрого распространения буддизма в Индии в первых веках до н. э.
Елинский М. В.
(СПбГУ, философ. ф-т)Аналитическое освоение этапов пути к Пробуждению в
тибетской буддийской традиции Гелуг. Этапы малой и средней личности
В тибетской форме буддизма - наиболее полной, сочетающей Сутру и Тантру, медитативное освоение положений доктрины является необходимой часть духовного развития наряду с изучением и осмыслением. Для всех четырёх основных тибетских буддийских школ характерно сочетание методик сутры, основанных прежде всего на изучении основных философских текстов, с обязательно очным обучением техникам медитативного освоения. Для освоения тематики этапов пути к Пробуждению, по-тибетски Лам-рим, используется аналитическое медитативное освоение, суть которого в том, что изученные и в достаточной степени усвоенные темы формулируются в виде сущностных положений, которые уже сам адепт в состоянии развернуть и прокомментировать. Эти сущностные положения затем осваиваются с помощью особого сосредоточения, цель которого породить в сознании практикующего глубокое осознание осваиваемого предмета.
Тема Лам-рим особенно акцентируется в традиции Гелуг. Основное сочинение в данной традиции об этапах пути – "Лам рим чен мо", или "Большое руководство к этапам пути Пробуждения" Чже Цонкапы. Оно является наиболее подробным в сравнении с другими тибетскими традициями. Ключевым положением этого сочинения является описание трёх типов духовной личности. Под духовной личностью здесь понимается личность, следующая духовному пути, которому также даются соответствующие определения. Принадлежность личности к тому или иному уровню определяется достаточной освоенностью (нужная степень освоения также указывается) соответствующего раздела учения. Идея такого освоения в том, чтобы практикующий усвоил стратегическую задачу личности на данном этапе и соответствующую такой задаче систему ценностей. Поскольку в данном случае речь идёт о первых двух этапах освоения, а именно малой и средней личности, следует сказать о них.
Самым первым является этап малой духовной личности, т. е. фактически он определяет личность как духовную. На более высоких этапах духовность уже подразумевается. В соответствии с буддийским определением личность является духовной, когда главным её стремлением является достижение счастья, не в теперешней, но в будущей жизни. Это и является темой освоения на первом этапе.
Буддийское учение о карме, т. е. о связи индивидуальных поступков с их результатами, которые должны произойти непременно в том же самом индивидуальном потоке бытия личности в её будущих перевоплощениях, выстраивает систему буддийской этики, придерживаясь которой индивид должен добиваться создания причин для своих благоприятных будущих перевоплощений. Таким образом, для начала освоения этапа малой личности адепт должен усвоить базовое учение о связи причин и следствий, глубоко осмыслить применительно именно к своей жизни вытекающую из этого учения систему ценностей и обучиться методике аналитического медитативного освоения, которую он позднее будет использовать для освоения последующих тем.
Когда этап малой личности уже освоен, для дальнейшего продвижения требуется новая теоретическая база. Здесь ключевую роль играет учение о двенадцатичленной цепи зависимого происхождения, описывающей механизм бытия в сансаре, или круговороте существования. Глубокое понимание механизма зависимого происхождения приводит к фактическому осознанию первых двух и практической реализации четвёртой, которая ведёт к осуществлению третьей из четырёх “истин святого”, также называемых Четырьмя Благородными Истинами: 1) истина страдания, 2) истина происхождения (источников) страдания, 3) истина прекращения страдания и 4) истина пути. По сути, у практикующего формируется особое мировоззрение, основными характеристиками которого являются понимание индивидуального бытия как безначального потока непрерывных перевоплощений в круговороте существования, понимание страдания как внутренне присущей характеристики такого бытия, понимание возможности и необходимости пресечения ущербного существования путём пресечения источников страдания и, наконец, практическое осуществление пути к прекращению страдания. Когда такое мировоззрение в полной мере усвоено, оно называется отречением (т. е. отречением от сансары). Наличие отречения и определяет принадлежность личности к уровню среднего потенциала.
В контексте общебуддийского подхода этап средней личности соответствует Хинаяне, или Малому Пути. Конечной ступенью развития по этому пути является уровень архата, или святого. Архат - святой, реализовавший третью истину, вышедший за пределы страдания и навсегда прекративший поток ущербных перевоплощений.
В Махаяне, Великом Пути, являющимся основной доктриной тибетского буддизма, этап средней личности формирует базу для дальнейшего продвижения. Конечной целью здесь будет состояние Будды, полностью реализовавшегося существа, способного привести к реализации всех остальных живых существ. Для достижения этой цели практикующему необходимо стать Бодхисаттвой, т. е. породить в своём сознании особое состояние устремлённости к Пробуждению (состоянию Будды), Бодхичитты, возникающей на базе освоенного ранее отречения с осознанием великой значимости цели освобождения от страдания всех живых существ. Поэтому в тибетском буддизме вообще и в традиции Гелуг в частности освоение этапа развития средней личности является одной из базовых тем духовной практики, необходимой в контексте более глобальной задачи.
Говоря о буддийской практике в рамках конкретной духовной традиции нельзя не дать краткой исторической справки. Школа тибетского буддизма Гелуг была основана Цонкапой Лосанг Дракпа (1357-1419), который, без всякого сомнения, является одной из величайших фигур в религиозной истории Тибета. Будучи выдающимся религиозным философом и практиком, он написал целый ряд знаменитых трудов, отличающихся исключительной точностью изложения, интегрированным подходом к сутре и тантре и глубоким исследованием медитативных техник. Он также вошел в историю как один из величайших реформаторов тибетского буддизма, посвятив свою жизнь его возрождению и сохранению чистоты учения. Одним из главных направлений его реформы буддизма было строительство монастырских университетов, дацанов, где учение преподавалось по принятым программам, защищались
учёные степени, проводились дебаты.Можно считать, что школа Гелуг начала свое существование в 1410 г. с завершения строительства монастыря Гандэн. Этот монастырь был призван стать центром для новой буддийской школы в которой монахам предписывалось строго соблюдать правила поведения (Виная), оттачивать понимание учения в философских дебатах и выполнять высокие тантрийские практики. Первоначально эта новая школа называлась Гандэнпа, по имени монастыря, но позднее стала известна как Гелуг, или Система Добродетелей.
Дело Цонкапы было продолжено двумя его учениками, Кедрубом и Гъялтсапом. Гъелтсап был возведён на трон в монастыре Гандэн и сохранял свое положение в течение 12 лет вплоть до смерти. Затем его дело продолжил Кедруб, бывший настоятелем Гандэна в течение 7 лет вплоть до смерти в возрасте 54 лет. Оба этих ламы считаются духовными сыновьями Цонкапы, и их образы часто присутствуют на иконах, изображающих Цонкапу.
В течение последующего времени школа Гелуг развивалась очень быстро, воспитывая множество буддийских философов и практиков. В 1445 г. Гендун Друб воздвиг новый монастырь Ташилунпо, ставший вскоре местом пребывания Панчен-лам, которые в иерархии Гелуг занимали второе место после Далай-лам. Монастыри традиции росли и процветали, в них приходили новые ученики со всего Тибета.
В 16-м столетии Школа приобрела значительное политическое влияние в Тибете в результате того, что третим Далай-ламой был признан Сонам Гъятсо (1543 - 1588), старший сын Алтан-хана, одного из самых могущественных монгольских военачальников. Разгромив в 1642 г. последнего правителя провинции Цанг, Гушри-хан назначил пятого Далай-ламу, Нгаванга Лосанга Гъятсо (1617 - 1682), духовным лидером Тибета. Пятый Далай-лама стал, таким образом, государственным деятелем и одновременно – важной религиозной фигурой. Он закрепил правило, согласно которому все будущие Далай-ламы признавались правителями Тибета. Это правило существовало вплоть до оккупации Тибета в 1959 г. китайской армией. Сегодня традиция Цонкапы продолжается в монастырях и буддийских центрах в Азии, Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии.
Переходя к теме аналитического освоения, следует сказать о принятой в традиции Гелуг методике медитативной практики. Предполагается, что задачей впервые приступающего к медитативному освоению этапов пути является собственно практическое вступление на духовный путь. Это означает, что адептом выслушаны, изучены и глубоко осознаны наставления, подразумевающие необходимость их практического осуществления. Практические наставления преподаются обязательно в очной форме квалифицированным наставником. Для реального прогресса на пути практикующий должен вступить со своим наставником в особые и очень личные отношения. Наставник преподаёт базовое учение, объясняет медитативные техники и отвечает на возникающие вопросы. Отношения такого рода характерны для всей ламаистской традиции. Выбор духовного наставника - обычно процесс непростой и может занимать много лет. В зависимости от обстоятельств у практикующего может быть несколько наставников. Но
поначалу адепту обычно предлагают считать своим главным наставником главу традиции, т. е. в случае Гелуг - Далай-ламу.Вверение себя духовному наставнику и является отправной точкой начала пути. Это первая тема медитативного освоения. Результатом такого освоения является появление в жизни практикующего высшего духовного авторитета, ламы, тождественного Будде. Именно из-за большого влияния ламы на ученика поиск подходящего учителя является трудным предприятием. Учитель обязательно должен обладать нужной квалификацией и никогда не использовать доверие ученика в корыстных целях.
Как уже говорилось, суть аналитического медитативного освоения этапов пути в том, что базовое учение представляется в виде сущностных положений, смысл которых понят практикующим. Опираясь на инструкции наставника, практикующий сосредотачивается на сущностных положениях и порождает в своём сознании глубокое и устойчивое понимание осваиваемой темы. Ниже приведены схемы сущностных положений аналитического освоения, начиная с вверения себя духовному наставнику до освоения двенадцатичленной цепи зависимого происхождения. Схемы расположены в том же порядке, в каком осваиваются соответствующие им темы.
Схема 1. Вверение себя духовному наставнику.
1. Преимущества опоры на наставника:
Опора на наставника - корень всех достижений
Возможность значительного накопления благой кармы и избавления от не благой
Опора на наставника создаёт причины для появления наставника в будущих жизнях
Опора на наставника имеет особое значение во время смерти
Духовный наставник передаёт благословение всех Будд.
2. Недостатки отсутствия опоры на наставника:
Отсутствие корня для духовной практики
Отсутствие причин для появления наставника в будущем
Опасность накопления тяжёлой не благой кармы в результате критики и дурного поведения в отношении учителей.
3. Развитие веры в наставника (4 этапа: неверие, сомнение, доказательства, уверенность):
Неверие в наставника вызвано тем, что он выглядит, как обычный человек, не как Будда
Сомнение: видимость обманчива, сам Будда говорил, что Будды проявляются по-разному
Доказательства, что наставник на самом деле Будда:
4. Развитие уважения к наставнику:
Наставник проявляет великую доброту, заботясь обо мне из жизни в жизнь
Он устраняет моё невежество подобно солнцу, рассеивающему темноту
Он является корнем всех достижений
Поскольку я получаю учение непосредственно от наставника, лично для меня он важнее всех Будд и Бодхисаттв
Размышление о достоинствах тела, речи и ума наставника: его тело воплощает всех Будд, Бодхисаттв и защитников; речь является учением, предназначенным именно для меня; ум обладает реализацией единства Пустоты и Сострадания и знанием способов приведения учеников к созреванию.
Схема 2. Драгоценная человеческая жизнь.
1. Определение.
1. 1. Восемь свобод:
Нечеловеческие рождения
человеческие рождения
1. 2. Десять благоприятных факторов:
Субъективные условия
Объективные условия
2. Значимость
3. Редкость
Схема 3. Непостоянство и смерть.
1. Недостатки не освоения темы непостоянства и смерти:
2. Преимущества освоения:
3. Собственно освоение темы непостоянства и смерти.
3. 1. Неотвратимость смерти:
3. 2. Неопределённость времени смерти:
3. 3. В момент смерти поможет только выполненная практика учения:
Схема 4. Прибежище.
1. Причины для принятия прибежища:
1. 1. Страх
1. 2. Вера в Будду, учение и Сангху.
2. Объект прибежища: Будда, учение, Сангха.
3. Почему Будда, учение и Сангха являются подходящими объектами для прибежища.
3. 1. Качества Будды:
3. 2. Учение - единственное средство достижения состояния Будды.
3. 3. Сангха - сообщество находящихся на пути к состоянию Будды.
4. Принятие прибежища через понимание качеств Будды, учения и Сангхи в отличие от других объектов.
5. Принятие прибежища через понимание Будды как врача, учения как лекарства и Сангхи как медперсонала.
6. Принятие прибежища с решимостью.
7. Принятие прибежища не показывая этого внешне.
8. Преимущества принятия прибежища.
9. Обязательства при принятии прибежища.
Схема 5. Карма.
1. Определённость кармы.
2. Невозможность встречи с результатом не созданной кармы.
3. Невозможность исчезновения однажды созданной кармы.
4. Преумножение кармы.
5. Виды кармы.
5. 1. Четыре составляющие:
5. 2. Десять негативных деяний:
5. 3. Позитивная карма.
6. Практика кармы.
7. Результаты кармы:
8. Очищение кармы с помощью четырёх противоядий (сил):
Представленные выше схемы соответствуют освоению этапа малой духовной личности. Далее следуют две схемы, соответствующие этапу средней личности.
Схема 5. Ущербность сансары.
1. Страдание.
1. 1. Восемь страданий:
1. 2. Страдания уделов:
2. Источники страдания.
2. 1. Общее определение аффектов.
2. 2. Характеристика каждого из десяти аффектов:
2. 3. Происхождение аффектов.
2. 4. Причины появления: основа, воспринимаемое, мирская компания, лжеучения, привычка, неверные установки.
2. 5. Пагубность.
3. Накапливание кармы из-за аффектов.
3. 1. Побуждающая и побуждаемая карма.
3. 2. накапливание кармы:
4. Смерть, бардо и рождение.
4. 1. Условия смерти.
4. 2. Мысли умирающего: благие, не благие и нейтральные.
4. 3. Откуда и где собирается жизненное тепло.
4. 4. Переход в бардо.
4. 5. Рождение.
Схема 5. 12-членная формула зависимого происхождения.
1. Двенадцать звеньев в прямом порядке:
1) неведение
2) двигатели
3) сознание (периода причины и периода плода)
4) психофизическая совокупность
5) шесть органов чувств
6) контакт
7) ощущение
8) жажда
9) привязанность
10) становление
11) рождение
12) старость и смерть.
2. Группировка звеньев как ввергающих и ввергаемых.
2. 1. Ввергаемые: от сознания периода плода (3) до ощущения включительно (7).
2. 2. Ввергающие: двигатели (2), обусловленные неведением (1).
2. 3. Они ввергают посредством кармических отпечатков (2) в сознании периода причины (3).
2. 4. Суть ввержения: создание при помощи “осуществляющих” звеньев потенции осуществления результатов.
3. Группировка звеньев как осуществляющих и осуществляемых.
3. 1. Осуществляющие: привязанность (9), обусловленная жаждой (8).
3. 2. Осуществляемые: рождение (11) и старость и смерть (12).
3. 3. Осуществляется через актуализацию кармических отпечатков (2), оставленных в сознании (3) двигателями (2).
4. Механизм осуществления цикла:
5. Группировка звеньев: 1, 8, 9 - аффекты; 2, 10 - карма; 3 - 7, 11, 12 - страдание.
6. Обратный ход 12-членной формулы.
Материалы
:Чже Цонкапа “Большое руководство к этапам пути Пробуждения”. СПб, 1994 – 1995, тт. 1 – 2.
Геше Джампа Тинлей, лекции по Ламриму. М, 1996 - 1997.
А. Щербаков, “История традиции Гелуг”. Интернет
: www.buddha.ru
Чекалова Л. В. (СПбГУ, вост. ф-т)
“Лотосовая сутра”: основные приемы буддийской педагогики
.Авторство “Лотосовой сутры” (полное название - “Сутра Лотоса сокровенного закона”, далее ЛС) приписывается легендой Шарипутре; реальное авторство сутры не установлено. По мнению теоретиков школы Тянь-тай, в течение пятидесяти лет после смерти Будды шел процесс формирования содержательной и доктринальной сфер буддизма. К этому времени они относят и складывание “Лотосовой сутры”. Разделяя тексты на три категории - отражающие соответственно концепции мгновенного и постепенного просветления и тексты неопределенного характера, тянь-тайские теоретики относят “Лотосовую сутру” ко второй категории.
Санскритское название текста – “Саддхармапундарика-сутра” (“Saddharmapundar
ãka-såtra”). Если обратиться к толкованию названия, то в слове Саддхармапундарика выделяются три самостоятельных части - сад, переводимая как “истинный, верный”, дхарма, переводимая как “закон” и пундарика – “белый лотос”. В некоторых редакциях, видимо, это звучало как “Саддхармапундарика-самадхи-сутра”, так как мы знаем название самого раннего, не дошедшего до нас китайского перевода – “Фа-хуа сань-мэй цзин”, где сань-мэй есть транскрипция санскритского термина самадхи.Популярность “Лотосовой сутры”, обилие переводов, списков, редакций, комментариев и другой литературы лишь на первый взгляд облегчают ее изучение; все это не дало ни одной монографии, целиком посвященной данному тексту. Существующие работы являются либо вступительными статьями к переводам текста, либо главами в монографиях, посвященных более широким темам. Довольно подробная информация содержится в некоторых энциклопедических словарях буддизма.
Видимо, текст ЛС начал складываться около I в. н. э. К III в. его уже наверняка записали, так как три ранних перевода ЛС на китайский язык относятся именно к III в. Следующий за ними перевод начала V в. отчётливо указывает на существование уже в IV-V вв. н. э. новой редакции ЛС, отличной от той, которой пользовались в III в. Первая редакция, судя по переводу Дхармаракши, более многословна, в ней присутствуют стихотворные куски, убранные при создании позднейшей редакции. Обе редакции существовали параллельно; после появления непальской в Центральной Азии, видимо, продолжали пользоваться старой, кашгарской. Таким образом, попытки “восстановления” меньшей редакции по большей представляется неразумным.
Существующие санскритские версии ЛС можно разделить на три группы: непальскую, центральноазиатскую и гильгитскую. Что касается датировки найденных текстов, то, скорее всего наиболее древними являются гильгитские, а самыми молодыми – непальские.
Первый полный перевод санскритского текста на европейский язык вышел в 1852 г. в переводе Э. Бюрнуфа. Далее последовал перевод на английский язык Г. Керна в 1884 г., потом – Керна и Нандзё в 1912 г. Нандзё сделал сверку текста и включил в перевод разночтения по пяти различным рукописям
, самый древний их которых датирован XI в.Несколько позже японские авторы Вогихара и Цутида сделали попытку исправить и дополнить перевод Нандзё, взяв для дополнительного сравнения рукопись из коллекции Отани. У этой работы есть безусловные недостатки, такие, как неверное толкование некоторых мест тибетского текста, необоснованное исправление чтений у Нандзё или Керна. Тем не менее, часть из них можно считать удачными и принять во внимание. Так или иначе, издание, подготовленное Нандзё и Керном, до сих пор
следует рассматривать как наиболее серьёзное и брать за основу при научном исследовании текста.В 1911 г. де Ла Валье Пуссен частично издаёт фрагменты ЛС, принадлежащие к Центральноазиатской группе.
В Китае ЛС пользовалась большой популярностью. В ряду наиболее распространенных буддийских текстов она ставилась на второе место после “Алмазной сутры”. Основные идеи, содержащиеся в ЛС, легли в основу учения школы Тянь-тай. Согласно каталогам буддийских текстов, существовало шесть переводов ЛС на китайский язык, однако до нас дошли только три.
Три несохранившихся перевода датируются 255, 265 и 355 гг. Авторство первого принадлежит Цзян Лян-цзе (Kalaśivi), второй приписывается Дхармаракше, хотя это скорее всего не так; автором третьего является Чжи Дао-гэнь.
Официально признанное деление текста ЛС было впервые предложено Чжу Дао-шэном в его комментарии к сутре. Позже оно было воспринято и приведено в окончательный вид учеными школы Тянь-тай. Прежде всего, текст ЛС состоит из двух разделов – цзимэнь (ветви) и бэньмэнь (ствол), ядрами которых являются 2-я и 16-я гл. Граница разделов проходит между четырнадцатой и пятнадцатой главами. Каждый из разделов, в свою очередь, разбит на три части - вступление
, истинное учение и распространение.Особенно важной нам кажется обучающая роль сутры, связанная с привлечением последователей и посвящения их в основы учения, а также с инструкциями, как именно обучать непосвященных (гл. 8-13). Поэтому на данном этапе анализу была подвергнута первая часть текста - цзимэнь (гл. 1-14), где содержится вся интересующая нас информация.
Все главы цзимэнь наделены общими признаками. Во-первых, в каждой главе происходит чудо - будь то цветочный дождь в гл. 1, проявление Буддой провидческих способностей или появление драгоценной ступы в гл. 11. Если учитывать, что данная сутра представляет собой проповедь, то - если так можно выразиться - непрерывное нагнетание волшебности как нельзя более подходит для поддержания в слушателях постоянного интереса. Во-вторых, это наличие сюжетной части в большинстве глав. Кроме привлечения внимания на уровне притч, сюжеты выполняют смысловую функцию. Не вызывает сомнения тот факт, что сюжеты тщательно отобраны и распределены по главам в логической последовательности, которую мы попытаемся продемонстрировать.
Первый сюжет, с которым мы сталкиваемся в тексте, - притча о горящем доме. Описание самого дома можно представить как аллегорию этого мира: он огромен, его строение так сложно, что человек, не обладающий специальным знанием, не может оценить его целиком. Напротив, видя лишь отдельные его плохие или хорошие стороны, человек испытывает иллюзорные привязанности ко всему миру, подобно детям, которые не могут увидеть огромный мрачный дом, привязаны к своим обычным местам для игр и не хотят выходить, когда начинается пожар. Пожар также вводится не случайно: он демонстрирует объективное непостоянство нашего мира. Дети же не выходят, потому что не видят этого и считают дом чем-то незыблемым. Далее следует аллегория очень яркая и глубокая: спасением от пламени является буддийское учение, но чтобы спасти, не обязательно открывать его сущность. Напротив, увидев учение в одночасье во всем его многообразии и сложности, неподготовленный человек может испугаться и, прячась в привычных ему реалиях, непременно сгорит в огне мирских страстей. Поэтому отец-бодхисаттва прибегает к уловке, чтобы спасти своих детей-мирян. Именно с помощью таких уловок, призванных снять напряжение и страх перед неизвестным, неофит подводится к пониманию учения. Именно так стоит трактовать санскритский термин упайя. Немаловажным является и то, что в конце притчи обрадованный отец выполняет свое обещание, запрягая повозки для детей. Это, по нашему мнению, прекрасно отражает методику отношений наставника с новообращенным. Так на начальном этапе человек подобен маленькому ребенку и не способен к сознательному анализу буддийской концепции, поэтому с ним ведется своего рода игра, обязательным условием которой является поощрение за каждый шаг, сделанный в верном направлении.
Следующий сюжет - притча о блудном сыне. Очень важно то, что здесь повествование исходит не от Будды, а от его учеников. Важность этого момента заключается в демонстрации понимания буддийской педагогики последователями учения; то есть здесь выражается осмысление методики преподавания основ системы и, таким образом, формирование дидактической сферы буддизма.
Методика подготовки новообращенного к пониманию истинной сущности учения, как это видно из глав 3 и 4, характеризуется следующими особенностями: максимальная адаптация учения к уровню психической подготовленности индивидуума на момент знакомства с учением, использование различных уловок, снижающих страх перед новой системой, постепенность подачи знаний и отсутствие давления, создание у неофита иллюзии самостоятельного, без подталкивания со стороны, восприятия и обработки новой информации.
Пятая глава добавляет к уже выявленным особенностям еще одну - концепцию универсальности буддийского учения, комплиментарности его всем живым системам и всем типам мышления. Учение Будды едино, в восприятии его каждым из последователей оно обретает многообразие форм, но результат - благо и духовный рост - один для всех.
Эта аллегория видится не совсем ясно отражающей приведенную выше мысль. По признаку наличия роста все растения объединены, но сам процесс роста индивидуален; более того, в “завершенном” виде все они различаются. Категория же блага кажется слишком, даже для буддизма, абстрактной, чтобы служить общим признаком. Хотя эту неточность можно оставить на уровне словесного выражения и не придавать ей глубинного значения.
Следующим этапом в пояснении сущности буддийской педагогики является седьмая глава с заключенной в ней притчей о чудесном городе. Здесь мы сталкиваемся с одной из основных ошибок, которую допускают последователи учения и способами ее исправления. Обретя некоторый запас знаний, большинство учеников начинают считать, что уже постигли учение, и главная задача наставника в данной ситуации – не отвращая их от дальнейшего следования по верному пути, продемонстрировать иллюзорность их умозаключений. Делать это слишком резко нельзя, так как, осознав всю сложность и длительность пути сразу, ученик может отказаться от него. Поэтому здесь применяются все уже представленные выше приемы – применение уловки, то есть метафорическое объяснение сути проблемы, постепенность объяснения (искателям дается отдых, прежде чем они продолжат путь). Универсальность метода также подразумевается, так как, когда город исчезает, то не находится тех, кто воспротивился бы этому. Итак, как мы видим, в первых трех притчах объясняются основные приемы, с помощью которых происходит обучение, а все остальные являются лишь их вариантами или развитием. Это доказывает не только приведенная выше притча из седьмой главы, но и все последующие.
Отвлечемся на время от описания сюжетного материала и попытаемся сформулировать, по каким признакам мы можем делить и группировать материал?
А) наличие чуда. Под чудом мы понимаем необычное явление, призванное проиллюстрировать какие-либо мысли или ситуации, встречающиеся в тексте. Присутствием подобных явлений отмечены гл. 7 и 11, причем в гл. 7 описано не само явление, а лишь рассказ о нем.
Б) наличие сюжетной части. В цзимэнь сюжеты и аллегорические примеры отсутствуют в гл. 2, 6, 10, 11, 13. В гл. 1, 9, 12, сюжетных по сути, также нет ни притч, ни аллегорий, а описываются реальные события. Таким образом, гл. 9 и 12 мы отнесем к классу В (наличие провидческой информации), так как в них говорится о прошлых жизнях. Гл. 1, как вступление, является, в некотором роде, самостоятельным текстом и не относится ни к одному из классов. Хотелось бы отметить, что практически все главы части, выделенной нами как руководство для уже приобщившихся к учению, не содержат сюжетного материала. В такой смене характера повествования четко видна смена языка при общении с обучаемым. Это лишний раз доказывает идею комплиментарности буддийского учения.
В) наличие “провидческой” информации (сюда включается информация и о прошлых и о будущих перерождениях)
Все главы внутри цзимэнь можно разделить на четыре основные части.
А) вводная часть (гл. 1), где содержится описание собора, включающее в себя место действия, перечисление присутствующих и т. п., то есть, когда, где, кем и при каких обстоятельствах был записан текст. Подобные описания открывают практически любую буддийскую сутру и имеют в китайской традиции специальное название чэнцзю.
Б) теоретическая часть (гл. 2), в которой происходит введение слушателя в атмосферу буддийской проповеди, и обрисовываются в общих чертах средства достижения просветления.
В) методическая часть или часть “как научить” (гл. 3-7).
Г) “мессианская” часть или часть “как научить учить” (гл. 8-13).
Ядром второй части мы полагаем гл. 4 и схему группировки материала в этой части представляем так, как показано на схеме в приложении 2. Как видно из наших рассуждений о смысле сюжетного материала, гл. 4 является развитием темы, заявленной в гл. 3. Гл. 5 также не существует сама по себе, а лишь дополняет гл. 4, описывая те аспекты, которые в последней опущены или не выведены на первый план. Гл. 6, вне всякого сомнения, является реакцией на гл. 4, а точнее, на факт рассказа притчи учениками. Ведь именно их имена фигурируют в предсказании, содержащемся в гл. 6. Теперь о том, по каким признакам гл. 7 связана с гл. 6 и 4. На примере нескольких своих учеников Будда демонстрирует, что достижение состояния, аналогичного его собственному, не только возможно, но и, в общем, безусловно. Будда таким образом (предсказанием) произносит похвалу ученикам за правильное понимание некоторых аспектов учения. Но тут же необходимо показать, что существует ещё один постулат буддийской методологии – никогда не останавливаться на достигнутом. Для этого служит гл. 7 с притчей о волшебном городе. В то же время гл. 7 содержит в себе мотив пути (познания), так же как и гл. 4. Разница лишь в том, что в гл. 4 путь составляет часть притчи и представлен в виде аллегории (через жизнь сына), а в гл. 7 это основная тема морали, следующей за притчей. Но такое различие не противопоставляет главы друг другу, а взаимодополняет их. На этом как бы замыкается “общий сюжет” всей части.
Перейдем к описанию (четвертой) части цзимэнь. Она начинается с гл. 8. Гл. 7 и 8 по нашему мнению составляют смысловую пару, - что, правда, противоречит официальному делению текста, предложенному школой Тянь-тай, - раскрывая концепцию скрытой истинной сущности учения. Гл. 8 в данном тексте выступает как продолжение и развитие мысли, заявленной в гл. 7. Обратимся к центральному повествованию гл. 8 - притче о бедняке и жемчужине. Трактовка образа жемчужины может быть двоякой. Первая объясняет образ жемчужины как аллегорию учения. Тогда толкование притчи будет следующим: важно не просто познать, обнаружить учение, но, прежде всего, научиться пользоваться этим знанием.
Вторая трактовка выглядит как отождествление жемчужины с природой Будды. Как следует из текста сутры, природа Будды есть в каждом живом существе и главная цель заключается в открытии ее в себе. Пока же мы не знаем о своей причастности к этой природе, она не имеет для нас никакой ценности.
В сочетании с предсказаниями ученикам и текстом предыдущей главы данная притча носит явственный дидактический характер и сосредоточена уже не на личности неофита, а непосредственно на том, чему нужно учить человека после вступления на путь учения, на что направлять его усилия. Главное различие двух методических приемов подобного рода (гл. 7 и 8) заключается именно в различии типов описываемых отношений. В первом случае это отношения типа неофит – бодхисаттва, а во втором – бодхисаттва – Будда. Таким образом, в гл. 8 совершается переход от части, адресованной людям непосвященным к части, обращенной к тем, кто сам уже способен преподать первым основы буддизма.
Отдельно стоит отметить тот факт, что в части 2 (4) практически отсутствуют главы с сюжетной основой. На наш взгляд это вызвано самим характером части и тем, кому она адресована. Мы назвали этот раздел “как научить учить” неслучайно: его основные положения предназначены для обучения методическим приемам тех, кто уже достиг определенных успехов на
пути учения, а именно для бодхисаттв, с которыми уже нет необходимости говорить упрощенным языком притч. Основная задача текстов этого раздела - внушить адептам учения идею необходимости донесения его до широких масс. Неверно, однако, было бы предположить, что использование различных приемов и наглядных примеров совсем исчезает из текста. Буддийская педагогика метафорична во всех своих проявлениях, но уровень используемых средств совсем иной, чем в главах 3-7 (8). Одним из наиболее ярких описательных примеров являются сходные по смысловой нагрузке повествования об Ананде (гл. 9) и Девадатте (гл. 12). Ананда и Девадатта составляют пару антиподов Будды с той лишь разницей, что Ананда в перерождении, современном повествованию - персонаж положительный, но совершивший ошибку в прошлом, тогда как Девадатта - отрицательный, но в прошлом совершивший благое деяние. Слушателям предоставляется самим понять, в чем именно заключается заслуга Девадатты - и, как следствие, ценность учения “Лотосовой сутры” - и ошибка Ананды, так как пояснение в тексте (“...не отказался от радостей мира...”) требует для непосвященного слушателя дополнительного комментария. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что знания адресатов уже находятся на уровне, достаточном для самостоятельных умозаключений, т. е. они являются посвященными (архатами).Если обратиться к выстроенной нами схеме организации цзимэнь, то выявляется еще одно различие значимых частей. Первая часть представляет собой единую многоуровневую систему, в то время как вторая часть линейна, т. е., практически все главы представляют собой последовательность, располагаясь в том виде, в каком они идут в тексте. Почему? Первая часть предназначена для непосвященных, для объяснения которым основ учения нужно делать очень много оговорок, приводить массу примеров, вводить закрепляющие моменты и дополнительные пояснения. Таким образом, в то время как язык такого текста максимально упрощен, степень загруженности информацией очень высока, и связи между главами многосторонни из-за постоянных повторов, поэтому общая схема текста получается очень сложной. Когда человек переходит на новый, более высокий уровень сознания, исчезает необходимость многократных пояснений и закрепления навыков; можно не объяснять термины, а просто употреблять их, поэтому язык усложняется, а общая структура текста становится проще. Такая модель, как нам кажется, характерна для любого познавательного процесса и не является специальным свойством буддийской методологии.
Теперь нам хотелось бы обратиться еще к одному, на наш взгляд, спорному моменту - к позиции гл. 14 в общепринятой структуре текста. Гл. 14 является завершающей главой первой части - цзимэнь. Однако нам кажется более правомерным отнести ее ко второй части в качестве вводного текста.
Гл. 13 завершает цикл текстов (гл. 8-13), объединенный общей идеей о том, что учение Лотосовой сутры нужно нести в мир. Как мы уже отмечали, в самой тринадцатой главе напрямую высказывается идея о необходимости миссионерской деятельности не только в Индии, но и за ее пределами. Гл. 14 действительно продолжает развивать эту мысль, но уже совсем на ином уровне. Как видно из описания главы (см. выше), в ней ставится вопрос о том, как заниматься распространением учения. Таким образом, эта глава совершенно не касается конкретных методик обучения неофитов, а, напротив, открывает новую тему - описание пути носителей учения, уже открывших в себе природу будды - бодхисаттв. Следовательно, гл. 14 либо относится к бэньмэнь, так как содержит постановку проблемы, которая будет разрешаться в последующих главах, либо принадлежит обеим частям одновременно как переходная.
Шомахмадов С. Х.
(СПб ФИВРАН)Подвижник “Лотосовой сутры”
(Нитирэн и его теократическая доктрина)
Школа Нитирэн, названная по имени своего основателя, представляла одно из трёх (наряду с амидаизмом и дзеном) течений буддизма нового типа (возникших в период, который получил название “камакурский”), сложившееся в XIII в. и идеологически связанное с военным сословием - самураями
.Деятельность Нитирэна разворачивалась на фоне давно начавшегося экономического и социально-политического кризиса. В результате тридцати лет междоусобных войн сторонники императора потерпели поражение и к власти пришли представители клана Минамото. В 1192 г. Ёритомо Минамото объявил себя военным правителем - сёгуном
.Вследствие указанных причин буддийские школы, возникшие в нарский и хэйанский периоды и кровными узами связанные с аристократией, стали центрами потенциальной оппозиции сёгунату. Хотя культовые сооружения “старых” школ продолжали функционировать, а гора Хиэй, место расположения главных монастырей Тэндай, оставалась центром японского буддизма, бакуфу не стеснялось расправляться с монахами, рьяно пропагандировавшими реставрацию императорской власти. Новые буддийские школы, ни политически, ни экономически не связанные с императорским двором и придворной аристократией, как раз и заполнили образовавшуюся “религиозную нишу” (13; 31).
Но главной причиной возникновения новых буддийских школ являлся глубокий духовный кризис, поразивший японское общество в конце периода Хэйан. Так, например, знаком духовного вырождения, деградации государственной буддийской церкви, каковой являлось объединение Тэндай, являлось резкое повышение функциональной роли обрядности, причём такое положение обосновывалось доктринально.
Создавшаяся ситуация подготовила почву для распространения в японском обществе эсхатологических настроений. Буддийское учение о неминуемом наступлении т.н. “века конца Дхармы”, о котором уже говорили лидеры новых буддийских школ, прекрасно объясняло причины возникновения кризисной обстановки в стране.
Новые школы пропагандировали свои учения в качестве единственного средства преодоления кризиса в “век конца Дхармы” как панацею от всех бед. Это и объясняет во многом веру Нитирэна в своё предназначение спасителя Японии от несчастий, а также и притязания его последователей на аналогичную роль.
Нитирэн (1222 - 1282) явился, пожалуй, самой харизматической личностью в истории буддизма. Его жизнь была бурной и динамичной, как и время, в которое он жил. Будучи ярчайшим представителем “нового” буддизма (периода Камакура), Нитирэн, в то же время, находился в решительной и последовательной оппозиции к военному правительству - бакуфу. И в высшей степени нетерпимо относился к амидаизму и дзену, не говоря уже о старых школах.
Нитирэн родился в 1222 г. в маленькой деревушке Коминато в уезде Тодзё провинции Ава на восточном побережье Японии. Много позднее Нитирэн подчеркнул уникальность места своего рождения: “Говорят, что эта провинция (т. е. Ава) была первой обителью великой богини Аматэрасу… Нитирэн родился в той же провинции, и это самая большая (для него) удача”. Напоминание о единых корнях с Аматэрасу, воплощением которой являлось солнце (“Аматэрасу” - “Освещающая небо”), закрепилось в монашеском имени: “Нити-рэн
” - “Солнце-Лотос”.Подобный ход может являться стремлением Нитирэна к некоему синто-буддийскому “синкретизму”, желанием заручиться “поддержкой” одновременно буддийского пантеона и расположить к себе также “истинных богов Японии” (дальнейшее исследование покажет правомерность этих предположений). Нельзя не признать это удачным решением, т. к. вновь обнаруживает себя исключительная “универсальность” личности Нитирэна, которая ни могла не импонировать широким слоям населения: как приверженцам буддизма, так и последователям традиционных верований.
На монашескую стезю Нитирэн вступил в двенадцатилетнем возрасте, придя с родительского благословения в местный храм Киёсуми-дэра, принадлежащий школе Тэндай. В 1239 г. молодой монах отправляется в Камакура, где проводит четыре года, обучаясь в местных храмах. Затем переезжает на гору Хиэй для более основательного изучения буддийских доктрин и получения монашеского “диплома” (14; 59). Период его учёбы в центре тэндайского буддизма и поездок по храмам других школ окончился в начале 1253 г.
Основным итогом пятнадцатилетних странствий Нитирэна по различным буддийским монастырям стала закладка фундамента его мировоззрения. Изучение тяньтайской догматики, общение с монахами, знавшими историю объединения Тэндай и часто вспоминавшими о расцвете школы, чтение сочинений Сайтё - всё это побуждало Нитирэна задумываться о реставрации былого величия школы. Однако эзотеризация тэндайского учения, борьба между фракциями, традиционная ориентация на аристократию убедили Нитирэна в невозможности
возрождения школы в новых условиях (14; 61).После неудачного опыта первой проповеди в родном Киёсуми-дэра, изгнанный из монастыря Нитирэн отправился в Камакура. Выбор столицы сёгуната в качестве арены своей деятельности был сделан им отнюдь не случайно. Претензии предохранить государство от окончательного упадка в “век конца Дхармы” и добиться его процветания, т. е. реализовать замыслы о реставрации идей Сайтё могли найти отклик только в Камакура, но никак не в Киото - императорской столице. Нитирэн заявил о себе как о “подвижнике Лотосовой Сутры”, продолжая дела Сайтё, что нашло отражение в названии школы, данной ей основателем: “школа Цветка Дхармы” (яп. Хоккэ-сю) (“школой Нитрэн” она стала именоваться с 60-х гг. XIX в.).
Основным методом привлечения новых адептов Нитирэном был метод сякубуку
. Сяку (досл. “ломать”, “сгибать”) означает ломать (активный акт) заблуждения тех, кого одолевает неведение (санскр. Авидья). Буку (досл. “подчинять”, “повергать на землю”) означает “громить плохих людей и плохие учения”. Сякубуку противопоставляется методу “сёдзю”, более буддийскому, который подразумевает спасение посредством сострадания.В отличие от других буддийских лидеров, Нитирэн делал акцент на сякубуку, использование которого в буддизме являлось оправданием резкой критики других учений и абсолютизации собственных взглядов. Агрессивность и нетерпимость Нитирэна нашла своё выражение именно в сякубуку. Сам он призывал к решительному пресечению деятельности почти всех современных ему школ, вплоть до физического уничтожения духовенства, и искоренению их учений (прежде всего амидаизма), следование которым стало якобы причиной несчастий, обрушившихся на Японию (14; 64).
До 1260 г. деятельность Нитирэна заключалась в распространении нового учения, формировании и консолидации движения. Первый шаг в реальную политику был сделан им в 1260 г., когда Нитирэн заявил о себе как “государственник” и как претендент на роль духовного наставника бакуфу, призванный спасти Японию в “век конца Дхармы”.
Весной 1260 г. Нитирэн написал свой знаменитый трактат “Рассуждение об установлении справедливости и спокойствия в стране” (яп. Риссё анкоку рон), в котором заявил о необходимости запрещения деятельности амидаистских школ.
Поначалу правительство отнеслось к увещеваниям Нитирэна весьма индифферентно, однако, после активизации нитирэнистами пропаганды взглядов учителя, по отношению к Нитирэну начали применяться репрессивные меры, дважды он был сослан: на остров Идзу и на остров Садо.
Последние годы жизни Нитирэн проводит на горе Минобу, неподалёку от горы Фудзи, где завершает разработку и систематизацию положений своего учения. Умер Нитирэн по дороге к горячим источникам. Тело его было кремировано, а прах захоронен на горе Минобу.
В нитирэновском учении значительно повысилась функциональная роль “Лотосовой Сутры”. Чжии и его последователи в Китае и Японии опирались прежде всего на “вступительные” проповеди, никак особо не выделяя хоммон. Своеобразие Нитирэна проявилось в переносе акцентов на “основные” проповеди, т.е. в повышенном внимании и рассуждениях о “вечной жизни” Будды и о “бодхисаттвах, появившихся из-под земли”, которым, по словам Шакьямуни, предопределено защищать и распространять “Лотосовую Сутру”.
В “Трактате об исконно-почитаемом как [средстве] постижения сути [бытия]” Нитирэн выделяет пять ступеней приближения Будды в его проповеди к “открытию” и фиксации сокровенной истины учения, выражением которой служат знаки мё-хо-рэн-гэ-кё (19; 321-328), т. е. записанное иероглифами название “Лотосовой Сутры”, о сакральном смысле которого говорил ещё Чжии. Эти пять знаков Нитирэн и называет “основными проповедями “века конца Дхармы””: “Когда мы обретаем и храним эти пять знаков, то нам сами собой даруются достоинства предопределения и результата” (19; 318). Он подчёркивает, что сокровенную суть своего учения, заключённую в пяти знаках, Будда передаст людям через “бодхисаттв, появившихся из-под земли”. При этом Нитирэн как бы дискредитирует бодхисаттв, традиционно почитаемых в махаянских школах, намекая на их ограниченные способности.
В “Трактате о лечении болезней” (яп. Дзибё сё) Нитирэн указывает, что есть два подхода к тяньтайскому учению: как к “принципу” (т. е. философскому учению) и как к “делу” (т. е. как к методу и образу действия) (12; 44).
“Дело” - спасение страны и её населения от бедствий “века конца Дхармы” посредством распространения веры в спасительную силу “Лотосовой Сутры”. Время перехода от “принципа” к “делу” определяется, по Нитирэну, “пятью знаниями” (яп. готи), в которых, по мнению автора данной работы, нашла отражение идея “искусности в средствах”:
1) “Учение” (яп. кё). Знание всех видов буддийских учений и, что самое главное, понимание невозможности спасения посредством одной только Малой Колесницы;
2) “Способности” (яп. ки). “Проповедникам Дхармы” необходимо знать способности слушателей к пониманию их слов и с учётом этого строить свои проповеди. (“Искусность в средствах” применительно к людям);
3) “Время” (яп. дзи). Знание “века”, в котором пребывает в данный момент человеческий мир. (“Искусность…” относительно времени);
4
) “Страна” (яп. коку). “Проповедники Дхармы” должны знать особенности страны, в которой они распространяют Учение, и, в зависимости от этого, выбирать подходящие методы обращения в буддийскую веру (либо сёдзю, либо сякубуку). (“Искусность…” применительно к странам);5) “Порядок” (яп. дзё). Знание того, какой вид буддийского учения уже распространён в данном регионе, какие идеологии преобладают. (“Искусность…” касательно идеологий).
Человек, обретший “пять знаний”, непременно станет “Учителем страны Японии”. Естественно, на вопрос, кто же может быть в “этот век” “Учителем страны”, Нитирэн отвечает, что, без сомнения, это он сам: “[Я] сказал: “Нитирэн - столп Японии. Потерять меня означает обрушить опору Японии”” (12, 48).
Объявив себя спасителем Японии и носителем высшего знания, единственным человеком, проникшим в суть откровений Шакьямуни, запечатлённых в “Лотосовой Сутре”, Нитирэн предложил конструктивную, с его точки зрения, программу достижения всеобщей гармонии, базирующуюся на “основных” проповедях. Для этой цели, утверждал Нитирэн, необходимо следовать “Трем тайным законам” (яп. сан дайхихо). Впервые Нитирэн упомянул об этих “законах” в 1274 г. в “Трактате о главном в Цветке Дхармы” (яп. Хоккэ сюё сё
).Первая “великая тайна” - хондзон, досл. “истинно-почитаемое”. Как правило, “истинно-почитаемое” представляло собой статую или изображение будды (бодхисаттвы, божества), устанавливаемое в сакральном месте и являвшееся объектом поклонения, на который направлены культовые действа.
В “Трактате об истинно-почитаемом как [средстве] постижения сути [бытия]” Нитирэн пишет следующее: “Облик “истинно-почитаемого” [таков]: над миром “саха” слева и справа от Сутры о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы, которая в центре, [располагаются] Будда Шакьямуни и Будда Многочисленные
Сокровища” (12; 49).Т. о., складывается мнение, что Истину, заключённую в тексте “Лотосовой Сутры”, Нитирэн ставит на первое место, тем самым отстранив на периферию непосредственных “живых” носителей (Носителя) той же Истины. Подобный ход будет использован последователями Нитирэна для провозглашения преимущества своего Учителя перед самим Шакьямуни.
Поэтому воплощением хондзона являются названные выше пять сакральных знаков, мё-хо-рэн-гэ-кё. “Истинно-почитаемое” материализовалось в мандале (или гохондзоне
, как её часто называл Нитирэн). В известном смысле гохондзон несёт в себе функцию, аналогичную православной иконе. Во всяком случае, нитирэновское понимание роли гохондзона сходно с трактовкой символа (в том числе и в приложении к иконе) Псевдо-Дионисием Ареопагитом.Второй “тайный закон” - кайдан - место почитания гохондзона. “Кайдан” (досл. “помост-площадка, на котором принимают заповеди”) является непременным атрибутом буддийского храма на Дальнем Востоке. В Китае и Японии так называли помещение или площадку, где послушники проходили церемонию “принятия заповедей”.
Нитирэн существенно изменил функциональную роль кайдана: он стал “местом посвящения” не только для послушников, но и для мирян - всех без исключения жителей Японии, поскольку каждый человек в равной мере может и должен приобщиться к Истинной Дхарме. Это место всеобщего единения. Учитель передаёт всем пришедшим сюда истинное значение пяти знаков мё - хо - рэн - гэ - кё. Человек, побывавший на кайдане, переживает духовную революцию, и такая метаморфоза должна произойти со всеми гражданами страны, что гарантирует гармонию в обществе и, следовательно, процветание государства.
И, наконец, третий “тайный закон” - даймоку (досл. “название”, “заглавие”) - фраза “Наму
мёхо рэнгэ кё!” - “Слава Сутре о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы!”, имеющая молитвенное значение. Посредством даймоку человек открывает в себе и реализует “мир” будды.Доктрина о даймоку была, пожалуй, вторым после идеи о собственном мессианстве любимым детищем Нитирэна. Уже в “Трактате о даймоку Сутры о Цветке Дхармы” (яп. Хоккэ кё даймоку сё), написанном в 1264 г., Нитирэн весьма категорично заявил о том, что, не зная смысла “Лотосовой Сутры” и ограничиваясь только пятью знаками и семью знаками на - му - мё - хо - рэн - гэ - кё и произнося их нараспев, можно добиться того, чтобы “не втягиваться ни в лёгкие, ни в тяжёлые плохие [деяния], не впасть в четыре плохих состояния и достичь ступени невозвращения” (12; 51).
Последователи Нитирэна развили учение о “трёх тайных законах” главным образом за счёт привязки каждой “тайны” к тем или иным положениям буддийской догматики. Наиболее распространённым является соотнесение “трёх тайных законов” с т. н. “тремя науками” (яп. сангаку). Поклонение гохондзону соответствует дхьяне, т. е. глубокому сосредоточению, медитации объектом которого он и является. Пребывание на кайдане сопоставляется с принятием заповедей и следованием им, а даймоку - с праджня-парамитой. Т. е. произнесение даймоку является обретением и следованием праджня-парамите - “высшей мудрости”.
Нитирэновское учение о теократическом государстве отталкивалось от соответствующей доктрины Сайтё. Государственной идеологией должен стать культ “Лотосовой Сутры” в истолковании Нитирэна. Для внедрения этой идеологии в общество используются гохондзон и кайдан, а правительство обязано помогать должному функционированию церковной организации. Населению Японии даётся “инструмент” веры - молитва “Наму мёхо рэнгэ кё!”
Центром теократической системы должна стать школа Нитирэн во главе с её основателем. У Сайтё “бодхисаттва-монах” обезличен: это член объединения Тэндай. Нитирэн же подчёркивал, что он сам - “столп Японии”. Школа во главе с Нитирэном должна хранить Истинную Дхарму и руководить всеми идеологическими (и политическими) институтами в государстве. Т. о
., светская власть в стране подчиняется духовной, и верховным органом управления государством оказывается школа Нитирэн.В отличие от Сайтё, Нитирэн делал акцент на карающей функции монахов своей школы и её мирских последователей. В “Рассуждении об установлении справедливости и спокойствия в стране” обсуждается вопрос о допустимости уничтожения приверженцев других буддийских учений (в первую очередь, амидаистов), и Нитирэн, апеллируя к сутрам, приходит к выводу, что защита с оружием в руках Истинной Дхармы,
как и самой Японии, от несчастий отнюдь не противоречит основным принципам буддийской религии. Нитирэн предлагал для спасения Японии только жестокие репрессивные меры против ведущих буддийских школ своего времени. Однако, являясь ортодоксальным продолжателем тяньтайской / тэндайской традиции и крупным религиозным мыслителем, основатель нового буддийского движения камакурского периода безоговорочно принял и широко использовал доктрину о “взаимопроникающих друг в друга мирах”. Это позволило сделать ему вполне резонный вывод: все без исключения японцы (шире - все люди, как и вся природа) обладают “природой” будды и могут обрести счастье в “этой” жизни. Так Нитирэн писал: “Знайте, что эти четверо бодхисаттв (имеются ввиду бодхисаттвы, в том числе и бодхисаттва Высшие Деяния, возглавлявшие “бодхисаттв, появившихся из-под земли”) во время проведения сякубуку стали мудрыми царями и побивают глупых царей, а во время проведения сёдзю становятся монахами, распространяют и хранят Истинную Дхарму” (19; 339). Т.о., Нитирэн признавал сёдзю более совершенным методом в сравнении с сякубуку, но в сложившейся ситуации репрессивный метод виделся ему единственно правильным. Сякубуку - “искусность в средствах” Нитирэна, принимавшего во внимание особенности идеологических течений современной ему Японии.Государство, отвечающее нормам своей теократической доктрины, Нитирэн назвал “государством, в котором установлены справедливость и спокойствие”. Эти определения предполагали также “успокоенную” и “защищённую” природу. Т. е. сингармоничность общества и среды обитания является само собой разумеющимся условием (и результатом) функционирования теократического государства.
Итак, пафос деятельности Нитирэна как буддийского мыслителя и как патриарха новой школы заключался в создании универсальной сотериологической доктрины: “три великих тайных закона”, по мысли Нитирэна, являются средством спасения и отдельного человека, и государства. Правда, в силу исторических обстоятельств Нитирэну не удалось даже частично осуществить свои замыслы. Не довелось этого сделать и его последователям. Тем не менее доктрины Нитирэна и его деятельность оставили след в истории японского буддизма.
Нитирэн резко усилил функциональное значение веры, и основополагающими компонентами его учения стали непременные атрибуты многих религий - молитва (даймоку) и икона (гохондзон). Другими словами, школа Нитирэн относится к тому направлению буддизма, которое провозглашает веру единственным путём достижения нирваны.
Усиление функционального значения веры сближает нитирэнизм с амидаизмом, хотя сам Нитирэн никогда не признал бы какого-либо сходства между ними. Тем не менее и там, и здесь делался упор на веру и спасительную силу (в первом случае - Лотосовой Сутры, во втором - Будды Амиды). Кроме того, можно провести параллель между даймоку “Наму Мёхо рэнгэ кё!” и сакральной фразой “Наму Амида буцу!” В свою очередь, нитирэновский гохондзон функционально тождественнен сингоновской мандале.
Помимо всего прочего, в “Трактате об истинно-почитаемом [как средстве] постижения сути [бытия]” Нитирэн пишет:
“…Помимо этого, даосы из Ханьской Земли ещё до [прихода в неё учения] Будды, [приверженцы] “внешнего пути” из Юечжи, конфуцианства, четырёх вед и других [учений] обрели правильное видение [сути бытия]… Если прибегнуть к сравнению, то это будет подобно тому, как “просветлившийся [через постижение] причин”, [смотря на] летящий [по ветру] цветок и падающий лист, обретает Путь вне Учения” (19; 312).
Здесь Нитирэн утверждает наличие Истины, “всепроникающего семени будды”, в других учениях, а последняя фраза вполне достойна чаньского патриарха.
Изменение общей направленности учения Нитирэна по сравнению с тэндайским было обусловлено задачей превращения нитирэнизма в общегосударственную, т. е. массовую, религию. Если Сайтё и его школа ориентировались исключительно на аристократов-“государственников”, то Нитирэн пытался опереться на неизмеримо более широкие слои японского общества своего времени. Однако уровень их образованности был очень низким и совершенно несопоставимым с образованностью хэйанской аристократии. Так что выдвижение на первый план “веры” являлось закономерным результатом становления Нитирэна как буддийского мыслителя.
После смерти основателя движение не смогло сохранить свою монолитность, раскололось и со временем потеряло свою силу.
Зельницкий А. Д
. (СПбГУ, философ. ф-т)О соотношении даосских и буддийских элементов в “Пумин баоцзюань”
Тексты баоцзюаней (драгоценных свитков) стали появляться в Китае в первой половине XVIв. как популярное изложение буддийского учения. Одним из ранних авторов и одним из создателей данного рода литературы является известный популяризатор буддизма эпохи Мин, сторонник чаньского прочтения основных идей школы Чистой Земли (Цзинту цзун) Ло Цин (Ло Цзу) (1443-1527). В приписываемом ему “Пятикнижии” содержится четыре текста, называемые баоцзюань. Дальнейшая история существования и развития данного жанра связана с вольным прочтением некоторых идей Ло Цина, что привело к возникновению маргинальных групп в различных слоях общества, уже мало что общего имевших с объединениями буддистов-мирян, для которых первоначально и предназначались тексты Ло. Прецедент, однако, был создан самим Ло Цином, в достаточно радикальной форме критиковавшим любые формы ритуального благочестия и даже подвергавшим сомнению занятия медитацией на основании утверждения изначальной пустотности сущего и назвавшим свое учение “Учением недеяния” (Увэй цзяо). Позже образовалась группа с таким же названием, к которой себя относили многие сектантские объединения, возникшие в дальнейшем. Все эти группы располагали текстами, излагавшими основные положения вероучения (дидактику, практику и сотериологию).Кроме того, сам Ло Цин под именем Патриарха Ло (Ло Цзу) или Патриарха Недеяния (Увэй Цзу) был возведен в статус, близкий статусу будды Вайрочаны в “Лотосовой сутре”. Одним из подобных объединений была секта “Путь Желтого Неба” (Хуан-тянь дао), возникшая примерно во второй половине XVI в. и обнаруженная китайским этнографом Ли Шиюем в 1947 г.; основателем ее считался некий Пу-мин, называемый в самом тексте “татхагатой” (жулай), характерным титулом для подобного рода объединений. Текст, где изложены основы вероучения секты, называется “Баоцзюань о прозрении татхагатой Пу-мином конечного смысла недеяния” (Пу-мин жулай цвэй ляо и баоцзюань). Он был переведен на русский язык и исследован Э. С. Стуловой и является на сегодняшний момент единственным исследованным текстом данного типа в отечественной науке. Текст носит ярко выраженный синкретический характер, сочетая в себе в достаточно причудливой форме элементы вероучений буддизма и даосизма. В данном докладе будут изложены некоторые результаты предварительных наблюдений в области соотношения этих элементов. Текст состоит из вступительной и заключительной части и 36 глав, 35 из которых озаглавлены по именам так называемых “будд покаяния”, а последняя глава посвящена собственно Пу-мину. Кроме этого, никакой тематизации по главам в тексте нет. Поэтому для удобства рассмотрения были выделены тематические группы фрагментов: дидактическая, праксиологическая и сотериологическая. Данное деление искусственно, так как в самих главах эти темы расположены без определенного порядка.
Дидактическая группа. В дидактике текста можно отметить явное преобладание буддизма. Рассуждения о положении человека в непробужденном состоянии ведутся в терминах “карма”, “кальпа”, “шесть видов существования” и др. Например, уже во вступительной части говорится о нарушении основных пяти обетов и особенно об убийстве живых существ (Вст. ч., 17). Или говорится, что люди “охвачены завистью, жаждут пяти вожделений (клеша) и не ведают, (что ждет их) горькое разочарование - круговращение в суетном мире” (гл. 10, 67) (пер. Стуловой). Однако, в некоторых случаях общий буддийский контекст нарушается даосской интерпретацией. Например, в первой главе, посвященной татхагате Шакьямуни (жулай Шицзямуни) говорится, что: “Все животные, насекомые, травы, деревья, кусты и леса имеют частичку истинного ян, который питает четыре вида живых существ, озаряет десять сторон света, наполняет бесчисленные, словно песчинки Ганга, миры” (гл. 1, 21). Речь идет о природе Будды, являющейся действительной природой всего сущего, но истолкованной как начало ян, из которого даосские адепты создают новое бессмертное тело. Сам мир непробужденного состояния называется “море страданий” (ку хай) или сопо (санскр. саха - поле Будды Шакьямуни). Освобождение трактуется как переправа на лодке спасения. Праксиологическая группа.
При переходе от дидактики к практическим наставлениям соотношение резко меняется. В качестве основной практики здесь выступает “внутренняя алхимия”, а все остальные практики, имеющие буддийское происхождение, являются сопутствующими. Например, о татхагате Шакьямуни говорится, что он “вначале выплавил (соответствующие востоку знак) цзя и (первоэлемент) “дерево” - слева Золотой отрок, затем обратился к югу (первоэлементу) “огонь” и (знакам) бин
, дин” (гл. 1, 22). Терминология “внутренней алхимии”, описание выплавления “золотого раствора” занимают значительное место в тексте. При этом сама практика именуется “следованием будде”. “Самосовершенствующийся человек, бери прежнее небо (сянь тянь), следуй будде непрестанно повсюду” (гл. 8, 57). Несколько мест в тексте говорят о парамитах, что, казалось бы, не должно удивлять при достаточной насыщенности текста буддийской терминологией. Однако данное слово выступает здесь как внутреннеалхимический термин, что явствует из текста. “Шесть цзя совмещаются с шестью дин и образуют шесть парамит, что с небом и землей одного корня, с солнцем и луной одинаково светлы” (Вст. ч., 9). “Собирай пяти сторон семя (цзин) и воздух (ци), превращай их в единую природу (син), (тогда) парамиты приведут в гармонию десять тысяч видов, выплавят истинную пустоту” (гл. 8, 57 - 58). “Сладкая роса падает (с небес) - это и будет парамита-переправа” (гл. 29, 166).Шесть стеканий “сладкой росы” (слюны в вещественном выражении) - шесть стадий созревания “бессмертного зародыша” в теле адепта. Употребление слова “парамита” связано, по-видимому, с “народной этимологией” его как “переправляющей на другой берег”. Сопутствующие практики буддийского происхождения заключаются в соблюдении пяти обетов, памятовании имени будды Амитабхи (Мито), чтении сутр. Особо рекомендуется чтение “Лотосовой сутры” (гл. 33, 191).
Сотериологическая группа. К группе сотериологических фрагментов отнесены те, что указывают на конечную цель адепта. Наиболее частым образом, связанным с пробуждением, “возвращением к истоку” является Ушэнлаому (Нерожденное-праматерь). Сам этот образ может быть истолкован и в даосском, и в буддийском смысле. Это подтверждается и сотериологической “топографией” текста.
Целью адепта является Чистая Земля, Нефритовый Пруд, Сумеру, Куньлунь, Паньтао (сад Сиван-му). Доминантой выступает все, что так или иначе связано с Западом, что одинаково характерно и для даосизма и для буддизма школы Чистой Земли (Цзинту цзун). Однако, в описании состояния пробужденного адепта смысловая доминанта принадлежит даосизму, так как достижение состояния Будды трактуется как обретение нового тела. Например: “Природа и судьба (мин) соединятся, вода и огонь сочетаются, кань и ли поменяются местами, явится тогда мани-драгоценность, золотое тело (ростом) в чжан и шесть (чи)” (гл. 19, 117). Золотое тело в один чжан и шесть чи - это стандартная характеристика Будды, но в данном контексте мы имеем дело с чисто даосской интерпретацией этого образа как тела бессмертного-сяня. Подводя итог, можно сказать, что в процессе формирования синкретических учений в Китае буддизм и даосизм играли неодинаковую роль. Если нравственные установки адептов были по большей части буддийские, то сотериологический идеал и методы его достижения предпочитались скорее даосские.
Котенко А. А.
(СПбГУ, философ. ф-т)Теодицея в “И Цзин”.
(По письмам Лейбница о китайской философии)
1
Умберто Эко в цикле лекций “От Марко Поло до Лейбница” говорит о так называемых “background books”, которые являются базовыми в определенной культуре и обусловливают наше восприятие мира. Наглядный пример – Марко Поло, которому в соответствии с европейским бестиарием полагалось знать о существовании единорогов; поэтому, когда в своих странствиях он действительно их повстречал, то лишь с удивлением отметил, что животные эти не такие уж грациозные, и тем более не белоснежные. Надо ли говорить, что это были носороги.
Прочтение Лейбницем “Книги Перемен” – несомненно, пример такого недоразумения, вроде Индии Колумба, – но и не только. В каждом подобном случае вопрос может быть поставлен двояким образом. Во-первых, является ли всякая интерпретация выражением сущностной аберрации восприятия, то есть “чужое” всегда адаптируется через узнавание в нем “своего”; увидеть же иное, как иное можно лишь радикальным “остранением” собственной привычной установки. А во-вторых, узнавание само по себе предполагает наличие некоего общего основания сравнения, поиск и обнаружение которого может шире осветить всю ситуацию. Выявление этой общей основы в прочтении Лейбницем древнекитайской классики – задача данного сообщения.
Прежде всего, несколько слов фактической стороне дела – как стало возможным знакомство Лейбница с культурой Китая.
2
Не случайно, 17 век в Европе назван Новым Временем - то, что буквально “витало в воздухе” и, как водится, в первую очередь было освоено литературой и искусством, четким образом сформулировал Декарт как “здравый смысл”, который “присущ каннибалам и китайцам”, что ознаменовало переход к эпохе Культуры как таковой, понимаемой отныне не как набор фиксированных предписаний, но как способность в любых условиях вести себя должным образом – глядя на себя со стороны
. Отметим лишь, что подобное утверждение общего знаменателя – хотя бы и в лице человеческого разума – не препятствует проекции привычных схем на инородный культурный материал. В любом случае, такой “рафинированный” европоцентризм предполагал смещение акцентов в отношениях с другими культурами. Пример тому – деятельность иезуитской миссии на Востоке, в частности в Китае. Помимо прочего, работа их носила и исследовательский характер, о чем свидетельствуют отчеты об изучении истории и географии страны, составление словарей и перевод канонических текстов. Изданные в Европе (1662 – “Да Сюэ”; 1672 – “Чжун Юн”), эти труды получили широкий отклик. В Германии научный интерес к Китаю первым проявил советник по китайским делам Андреа Мюллер, куратор библиотеки курфюрста Фридриха Вильгельма Бранденбургского в Берлине. В 1674 году он опубликовал работу “Propositio clavis Sinica”, где сообщал, что раскрыл загадку китайского языка. Лейбниц, которого интересовала проблема соотношения языка с нашим познанием вообще, послал ему ряд вопросов касательно китайского, поскольку существовало предположение, что язык Срединной Империи имеет искусственное происхождение, потому что в качестве смыслоразличителя в нем присутствует и тональность.Кроме того, в силу широты своих интересов Лейбниц считал достойным тщательнейшего изучения письмен древних, дабы не упустить ни крупицы знаний, таящихся в них – в самом широком смысле: от таинств религии до медицины. Неудивительно, что при первой возможности Лейбниц едет в Рим для встречи с представителями иезуитской миссии в Китае. Результатом
этих встреч стала книга "Novissima Sinica" 1697 года, в которой Лейбниц опубликовал часть своей переписки с отцами Гримальди, Буве и др. Во введении к этой книге он говорит о высоком уровне китайской культуры, особенно в плане политического управления. Следует упомянуть о том, что ученый рассчитывал установить с помощью России культурные связи между Европой и Китаем, мечтал о создании ученых обществ в Вене, Берлине, Петербурге и Пекине, настаивал на создании Китайско-европейской академии наук, в которой преподавались бы западные науки (в первую очередь математические дисциплины) и восточная философия.В 1701 г. в письме к отцу Буве Лейбниц изложил принципы своей бинарной арифметики с приложением таблицы числительных. В ответе ему Буве указал на сходство гексаграмм "Книги перемен" с бинарным исчислением и возможность интерпретации их в этом духе. Но прежде чем подробнее остановиться на тех выводах, к которым пришел Лейбниц, кратко напомним, что представляет собой "Книга Перемен".
3
“И Цзин”, или иначе “Чжоу И”, является книгой книг для китайской цивилизации, и имеет для нее такое же значение, какое для Запада играет Библия. Сходство их мистичности происхождения, и в том, что обе они оказали прямое влияние на формирование парадигмы истолкования мира – каждая в
своей части света.Как известно, графическая основа "И Цзин" - 64 гексаграммы, или особых символа из 6-ти расположенных друг над другом черт, записываемых снизу вверх, согласно естественному порядку, подобному росту растений, в противоположность порядку искусственному - способу записи иероглифов. Черты - знак универсальных мироустроительных сил: активной, мужской, светлой Ян (целая черта) и пассивной, женской, темной Инь (прерванная черта). Центральную роль играют комбинации из трех черт, т. е. половинок гексаграмм и обозначающие восьмеричный набор универсалий
.Считается, что происхождение канонической части "Чжоу И" связано с гадательной практикой, восходящей к концу 2 - началу 1 тыс. до н. э. Согласно легенде, графические символы триграмм, иначе - гуа, были явлены первому императору Фу Си на панцире Великой Черепахи, как природосообразные образцы в созидании материальной культуры. Вообще, мантические символы гуа (как три-, так и гексаграммы) рассматриваются как фундаментальные общеметодологические категории китайской философии в том смысле, что являются элементами универсальных классификационных схем - 8 триграмм и 64 гексаграмм, обозначающих основные ситуации любого циклического процесса в постоянно меняющемся мире.
Гуа вынесли из гадательных практик и совместили в себе идеи геометрической символизации и числовой комбинаторики. Будучи объеденными в систему, они призваны "разделять по родам свойства всей тьмы вещей" (приписываемый Конфуцию "Комментарий привязанных изречений"). Там же: "Перемены имеют Великий
Предел, это рождает двоицу образов, двоица образов рождает четыре символа, четыре символа - восемь триграмм". Таким образом, последовательное разделение происходит по принципу удвоения до 64.Следует также упомянуть о двух стандартных формах записи гексаграмм - квадратно-круговых расположениях, приписываемых мифическому императору Фу Си (3 тыс. до н. э.) и историческому основателю династии Чжоу - Вэнь Вану (11в. до н. э.). Удивительно то, что постепенная смена черт Инь и Ян в порядке записи Фу Си подчинена
той же закономерности, что и смена 1 и 0 в порядке натуральных чисел, записанных в бинарной арифметике.4
Но вернемся к Лейбницу, чтобы прояснить, что он подразумевает под “естественной теологией” древних китайцев, о которой он упоминает в переписке с Николаем Ремоном. Рассуждения вылились в маленький трактат (неоконченная рукопись в 16 листов на французском языке) озаглавленный "Philosophie des Chinois" и опубликованной в Штуттгарте лишь в 1968 году. Начиная с утверждения того, что в китайской философии заложена возможность рационального понимания, Лейбниц анализирует ее основные принципы, а также представления китайцев о душе и Боге, демонстрируя основательную осведомленность относительно конфуцианского канона.
В четвертой части Лейбниц пишет: “Мы вместе, Буве и я, открыли смысл знаков Фу Си, основателя империи, который кажется наиболее верным. Эти 64 фигуры из целых и прерванных линий, считающиеся наиболее простыми и древними в Китае, составляют “Книгу Перемен”… В них ищут философские тайны, даже некий род геомантии и прочие суетные вещи, вместо того, чтобы увидеть бинарную арифметику, которую я отыскал несколько тысячелетий спустя, и которой, как кажется, обладал этот великий законодатель древности”.
Кратко напомним, что в двоичной арифметике существует только два знака - 0 и 1 - для записи бесконечного ряда натуральных чисел, в отличие от набора от 0 до 9 в привычной нам десятичной системе. В любом исчислении переход к новому разряду осуществляется после того, как числа предшествующего разряда исчерпают
в своем увеличении набор основных символов системы. Как в десятичной, единицы после 9 переходят в десятки, которые, в свою очередь, будучи взяты девять раз, образуют сотни и т. д., так в бинарном исчислении, после элементарных чисел 0 и 1 совершается переход к следующему разряду – двоек, который, увеличиваясь согласно основанию 2, составит новый разряд четверок и т.д. в той же прогрессии – 8, 16, 32, 64. На письме переход к следующему разряду также отмечается увеличением записи в строку.Каждая система имеет свои недостатки и преимущества, и, кажущаяся громоздкость бинарной, компенсируется ее элементарным набором символов, что оказывается идеальным для языков программирования, так что Лейбниц вполне заслуженно считается “крестным отцом” современной кибернетики. Известно, что Лейбниц строил первые вычислительные машины, но выводы, которые он делает из открытого им исчисления гораздо более впечатляющи.
Для 17 века вообще математическое обоснование метафизики вполне закономерно, и для Лейбница, очевидно, что, пронаблюдав порядок в какой либо части, мы можем распространить его и на весь универсум, устроенный Богом совершенно упорядоченно. (Как это явствует из “Теодицеи”, буквально, Бог творит мир считая, то есть путем исчисления возможных миров и выбора наилучшего). А если “бездна и необитаемая Тьма равносильна нулю и ничто, Дух же Божий и его Свет равноценны всемогущему Единому”, то, подобно тому, как бесконечный ряд натуральных чисел в бинарной математике возникает только из 1 и 0, так и Бог творит мир из ничего.
В письме герцогу Рудольфу Августу Брауншвейгскому и Люнебургскому от 2. 1. 1697 Лейбниц предлагает отлить серебряную медаль в честь открытия алгоритма написания двоичных чисел, символизирующего образ творения мира: "Imago Creationis".
Демонстрация творения при помощи бинарного исчисления имеет определенное преимущество, которое Лейбниц видит в том, что при этом мы не только убеждаемся в творении мира из ничего, но и в том, что: "Господь все создал хорошо, и что все, что Он создал - благо… Ибо, в то время как при обычном написании чисел невозможно усмотреть какого-либо порядка, но лишь известную последовательность символов и их обозначений, здесь, напротив, поскольку видны их сокровенная основа и изначальное соответствие, обнаруживается превосходный порядок и гармония, так, что лучше и быть не может, по той причине, что налицо постоянное правило смены событий, в силу которого все можно записать, не прибегая к счету…" Имеется в виду простота записи ряда чисел в двоичной системе, которое состоит в механическом чередовании 1 и 0, согласно простейшему принципу. Поясняя почему эта медаль символизирует тайну Творения, Лейбниц надписывает сверху: "Omnibus ex nihilo ducendis Sufficit unum", причем “sufficit unum, хотя оно в данном случае говорит о собственных числах и означаемом ими творении, распространяется однако дальше, а именно на наше учение, и заключает в себе главное правило нашей жизни и христианства, то, что одного лишь Блага достаточно нам, если мы правильно ему служим". Отсюда следует закономерный шаг -
договориться с язычниками на языке математики об истинной религии, в частности послать медаль с изображением представителям иезуитской миссии в Китае, поскольку от них известно, что "монарх этой могущественной империи - большой любитель математики,” и поэтому “изображение христианского таинства могло бы, пожалуй, послужить тому, чтобы мало-помалу открыть ему глаза на преимущества христианской веры".Уже на этом этапе мы могли бы сделать вывод, который "лежит на поверхности", о том, что способность человека упорядочивать универсум движется по идентичной абстрактной схеме: исток всего - в недифференцируемом и несказуемом едином, первичным порождением которого является бинарная оппозиция сил, игра последних создает все множество вещей (как бесконечный ряд чисел начинается, собственно, с двойки). Гипостазирование же категорий происходит по разным схемам, соответствующим той или иной культурной традиции.
Но, в данном случае, сказать только это будет мало, поскольку налицо еще одно сходство - идея рационального языка, с помощью которого можно четким образом высказаться обо всем, иными словами, проект "универсальной характеристики”.
5
Известно, что Лейбниц, в целях усовершенствования “искусства открытия”, стремился найти не столько решения отдельных проблем, сколько методы самих решений. Для этой задачи потребовался бы некий алгоритм выведения истин из известных данных, с такой же ясностью и последовательностью, как это возможно в математическом анализе. Подобная идея отсылает нас к “искусству комбинаторики” Раймонда Луллия, в котором заключение делается на основании перебора всех данных комбинаций высказываний, путем устранения неподходящих и противоречивых. Известная Лейбницу со времен юношеской диссертации, идея развивается им в проект универсального исчисления. “Если бы существовал какой-то точный язык (называемый некоторыми Адамовым языком) или хотя бы истинно философский род писания, при котором понятия сводились к некоему алфавиту человеческих мыслей, тогда все, что выводится разумом из данных, могло бы открываться посредством некоторого рода исчисления, наподобие того, как разрешают арифметические или геометрические задачи”. Лейбниц предполагает, что подобным языком могла быть Каббала, арифметика пифагорейцев или Характеристика магов; увидеть ее в “Книге перемен” помог патер Буве.
Вот что он пишет Лейбницу в письме из Пекина от 4 ноября 1701 г.: “Поскольку я исповедую те же принципы, что и Вы, мой сударь, меня ничуть не приводит в недоумение Ваш проект набора символов, которые Вы предлагаете для выражения мыслей: так, чтобы одни и те же символы служили одновременно и для вычислений и для доказательства в рассуждениях и т. д. Ибо этот вид письма мне представляется содержащим настоящую идею древних иероглифов и каббалы иудеев, точно так же как и знаков Фу-Си …“ Открытые легендарным императором 64 комбинации целых и прерванных черт представляют собой числовые символы, которых современные китайцы не знают и, соответственно, совершенно не подозревают об их истинном назначении.
Далее, о. Буве предлагает краткий путь к восстановлению понимания древней характеристики (или знаковой системы), а именно, на основе двойной геометрической прогрессии “расположить в наиболее простой и естественной последовательности все идеи согласно их роду и видовому отличию ”. Схема проста: точка, как наиболее адекватный символ целостности, обозначает первопринцип и трансцендентное существо (“самое простое, самое совершенное, и самое плодовитое”). Из первопринципа вытекает два рода идей – совершенное и несовершенное, которые можно обозначить целой и прерывной чертам, или 1 и 0. В соответствии с геометрической прогрессией следующая ступень ряда будет равна четырем, а на шестой ступени удвоения мы получим, таким образом, 64 графемы, которые суть “естественные символы, представляющие идеи, и, будучи соединены в этот восхитительный порядок, в котором он (Фу-Си) их выстроил, образовав свою двойную схему в виде квадрата и круга, представляют весьма совершенный метод, позволяющий до конца исследовать и с предельной ясностью изложить без помех и трудностей, и при использовании одних и тех же терминов и аналогий, принципы всякого рода знания ”. Вывод Буве: “ Таким образом, при помощи только двух принципов, или двух видов материи, следуя правилам и аналогии этой системы, мы сможем объяснить все виды чисто телесных существ. Более того, когда мы, следуя той же самой системе, будем говорить о каком либо предмете, что белый как четыре, черный как восемь, горячий как два, холодный как шесть, сухой как пять, влажный как семь, или как в седьмой степени и т. д., мы
будем иметь столь же отчетливое и точное представление о том, что мы говорим, как когда мы говорим, что градус есть 360-я часть круга или, что небесный знак это 12-я часть зодиака и т. д.”6
Подведем итоги. Что лежит в основе совпадения, породившего интерпретацию гексаграмм “Книги Перемен” в духе “универсальной характеристики”, которая, по сути, не является искажением? Если, с конфуцианской точки зрения, одна из задач “И Цзин” – “классификация по родам тьмы вещей”, а строение алфавита человеческих высказываний это простейшие понятия из которых могут быть выведены все остальные, то легко заметить, что в обоих случаях в основании находится первичная бинарная оппозиция: инь - янь, Бог и Ничто, 1 и 0, Да и Нет… Таким образом, логика дихотомии, “раздвоение единого” – то, что позволяет нам определять, ориентироваться в мире вообще.
Остается обратить внимание на одну особенность определения через противоположности, как в “Книге Перемен” или в комбинаторном искусстве Раймонда Луллия – опираясь на ту же дихотомию, здесь выстраивается не “древо Порфирия”, но иная схема – прохождение круга, или модель цикла.
В “Тимее” (47с) Платон говорит о природной правильности рассуждений , которая уподобляется безупречному круговращению бога. Итак, круг – это порядок изменяющегося процесса. Что мы и обнаруживаем в “Книге перемен. Доказательство в такой логической модели – само построение системы, или то самое “прохождение круга”, когда заданы крайние точки противоположностей – начало и конец – и требуется найти связующее их посредством пропорции среднее. Здесь, достичь истины - означает раскрыть гармоническую связь между элементами, кажущимися разрозненными обычному взгляду. Переход от такого типа логики, условно обозначенной как логика мифа, к логике собственно научной, в явном виде дан в аристотелевом силлогизме. (Аристотель говорит, что доказательства не возвращаются назад к началу, а всегда идут прямым путем и мышление скорее похоже на покой и остановку, нежели на движение).Такое мышление в контексте целого, на примере китайского материала получает название “коррелятивного” у Дж. Нидема в его фундаментальном труде “Наука и цивилизация в Китае”. Нидем пишет, что для китайской мысли категория “отношение” является более значимой, чем “субстанция”, и там, где западный ум спрашивает “что это по существу?”, китайский – “как это соотносится со всем остальным?”. А так же: “Вещи воздействуют друг на друга не путем причинно-следственного механизма, но скорее взаимно индуцируются”. Говоря, что для коррелятивного мышления ключевым словом является Образец или Модель (Pattern), Нидем цитирует неоконфуцианца Чен Хао: “Мириады форм включены в Великую Форму”. На основании чего Нидем сравнивает древнекитайский универсум с великим Организмом и проводит аналогии с системой Лейбница. Но именно последнее
следует делать с большой осторожностью, поскольку нам известно выделение Лейбницем в мире двух непересекающихся видов причин – конечных, то есть целевых, свойственных душе, и движущих, телесных. То, что эти виды причинности ведут себя так, как если бы между ними существовала связь, относится к действию предустановленной гармонии, доказывающей бытие Бога. Как видно, при таком описании Лейбниц остается настоящим механицистом 17 столетия.
М. С. Хаютина
(ИВ РАН)Природа и этика "дружбы" в Древнем Китае эпохи
Западного Чжоу (XI - VIII вв. до н. э.).
I
Ставя вопрос о сущности того или иного социального термина в той или иной культуре и в тот или иной период времени, мы предполагаем отказ от "калькирования" данного понятия с помощью подбора более или менее подходящего по значению термина из современного словаря языка, которым пользуемся. Желая реконструировать систему социальных связей, стоящих за неким оригинальным термином, исследователь должен пойти по пути его интерпретации. Наиболее плодотворным методом представляется анализ контекстов, в которых выступает данный термин в аутентичных синхронных исторических источниках. Семантический анализ позволит выявить связи между данным концептом и другими социальными, этическими и эстетическими категориями, а применение исторических методов позволит адекватно интерпретировать данные результаты.
Настоящая статья посвящена изучению китайского термина ю, как правило, переводимого на русский язык как "дружба", а на английский как "friendship", и связанных с ним терминов ю
, пэнъю и пэн, переводимых соответственно как "друг"/"friend", и особенностям их употребления в эпоху Западного Чжоу. Поскольку работа выполняется на русском языке, вполне естественно, что на уровне здравого смысла русская модель "дружбы" неминуемо будет довлеть над восприятием читателя. Поэтому прежде, чем перейти к рассмотрению древнекитайской "дружбы", я хочу вкратце остановиться на модели дружбы в современной русской культуре: "Дружба" - это союз между двумя или несколькими людьми,|
|
индивидуальный |
|
это принципиально |
||||
|
основанный |
на свободном выборе |
|
это принципиально |
||||
|
|
на духовной близости |
|
|
||||
|
|
на взаимной симпатии |
|
|
||||
|
на почве |
общих интересов |
возможно, но не это является определяющим |
|||||
|
|
|
совместной деятельности |
|
||||
|
|
не на родстве |
|
это безусловно |
||||
|
|
предполагает |
симметричность |
как правило |
||||
|
|
взаимопонимание |
это принципиально |
|||||
|
|
|
доверие |
|
||||
|
|
|
взаимопомощь |
|
||||
|
|
|
глубокую привязанность |
как правило |
||||
|
|
|
удовольствие |
|
||||
"Друг", "приятель", "товарищ" - эти категории пересекаются между собой в части своих значений. Но термин "друг" отличается от двух других тем, что его употребление указывает на существование наиболее близких и интенсивных отношений между людьми, не являющимися родственниками.
II
Обратимся теперь к китайскому материалу. В современном китайском языке понятие "дружба", наиболее близкое по значению к русскому, передается с помощью составного слова юи, которое в поясняется в словаре Цыхай как "дружеские отношения между пэнъю ("друзьями")". Первый компонент термина юи, то есть ю, имеет следующие значения:
I.1) друг, приятель, товарищ, коллега, единомышленник, близкий по духу; дружественный; 2) группа из двух, пара.
II.1) дружить, быть в хороших отношениях, относиться по-товарищески (по-братски); 2) любить младшего брата; любить (братьев); любящий (брат); 3) помогать.
Знак и, в свою очередь, имеет значения:
1) дружба, дружественный; 2) родственные связи, близкие отношения.
Пэнъю, по определению Цыхая, это "общее название для людей, имеющих между собой дружеские отношения".
Составные части сова пэнъю
- пэн и ю могут употребляться по отдельности. Значения знака ю были приведены выше, а знак пэн может означать следующее:I.1) друг, приятель, товарищ; близкий по духу, единомышленник; 2) чета, пара, ровня; 3) содружество, группа, сообщество; клика, камарилья; толпой, стаей, сообща, вкупе; 4) пэн (древняя мера: а) пара или пяток раковин, черепаховых щитов, монет; б) две чаши вина; в) единица счета дворов в деревне - 3 линя по 8 дворов в каждом, т.е. 24 двора);
II. составлять компанию (содружество); образовывать клику (сообщество).
|
|
ю |
ю/пэн |
пэн |
|
существительное |
Коллега |
друг, приятель, товарищ; близкий по духу, единомышленник |
содружество, группа, сообщество; клика, камарилья |
|
числительное |
|
2 - пара |
5, 10, 24, много |
|
глагол |
любить (братьев) |
|
образовывать группу |
Схема 1. Семантические поля понятий ю и пэн
.Как видно из схемы 1, оба термина совмещают значения "друг", "приятель" и "товарищ", что, естественно, не может не озадачивать русскоязычного читателя. В современном китайском языке, конечно, имеются способы для различения "дружбы" и товарищеских или приятельских отношений, или для указания на большую или меньшую интенсивность собственно "дружбы". Их анализ может быть предметом отдельного исследования, нас же интересует понятие "дружбы" в древнем Китае. Именно упомянутые выше термины ю
, пэн и пэнъю будут находиться в центре внимания в связи с древнекитайской "дружбой".III.
В ряде надписей на бронзовых сосудах, - котлах для жертвенной пищи и вазах для вина, - отлитых западно-чжоускими аристократами для использования в их клановых храмах предков, упоминаются ю или пэнъю. Объем настоящей работы не позволяет подробно рассматривать тексты инскрипций, поэтому я приведу лишь список выявленных мною характерных ситуаций, связанных с категорией ю
:1)
Ю/пэнъю принимали участие в совместных трапезах, совершавшихся, видимо, после жертвоприношений в храме предков, причем жертвенный сосуд мог использоваться в их ходе для еды.2)
Ю/пэнъю могли принимать участие в жертвоприношениях предкам владельца сосуда.3) Владелец мог посвятить ритуальный сосуд специально своим ю/пэнъю. Пэнъю могли упоминаться одновременно со свойственниками (хуньгоу). Одновременно с ю/пэнъю в текстах не упоминались никакие кровные родственники.
4)
Ю часто упоминаются в связи с выполнением каких-то должностных обязанностей, являясь приближенными, подчиненными и дружинниками авторов надписей.5) Автор надписи мог руководить и воспитывать своих ю/пэнъю, действуя при этом с помощью не приказов, а убеждений, руководствуясь принципом "добра" (шань). Он мог выражать своим ю/пэнъю "любовь" (хао) или "сыновнюю почтительность" (сяо).
Следует сразу отметить одну существенную деталь – владелец сосуда, от чьего лица ведется речь в ритуальной инскрипции, это, как правило, глава клана. Заказывая бронзовую утварь для жертвоприношений в храме предков, он действовал не от себя лично, а от имени и в интересах всего "кланового тела".
Ю/пэнъю - это также не одно лицо, а группа людей. На это, в частности, указывает устойчивое словосочетание до ю - "многие ю", часто встречающееся в западно-чжоуских надписях. Видимо, термин пэнъю, позже полностью вытеснивший из обихода выражение до ю, изначально был ему тождествен. Счетное слово пэн - "связка раковин" - служило показателем большого числа ю, а, возможно, в символическом плане указывало на прочность связи между ними. Слово пэн не имело значения "друг"/"товарищ" в период Западного Чжоу, но в поздне-западночжоуское время могло обозначать "объединение"/"группу":
Пункт 1 свидетельствует о большой близости между кланом и группой ю/пэнъю. В эпоху Западного Чжоу, особенно в ранний ее период, клановые ритуальные действа собирали сравнительно небольшое количество людей. При этом, видимо, присутствующие не делились на исполнителей ритуала и наблюдателей, а участвовали в нем совместно. Правом на непосредственное совершение жертвоприношений обладали только члены клана. В пире же по их окончании, теоретически, могли участвовать и не члены клана. Совместная ритуальная трапеза с людьми, не связанными кровными узами, должна была способствовать укреплению отношений между ними и кланом. Если ю/пэнъю были "друзьями", - людьми, находившимися в союзе с данным кланом, - их упоминание в надписях на ритуальных сосудах кажется вполне естественным.
Увеличение числа присутствующих при жертвоприношениях начинается с середины периода Западного Чжоу, с этого же времени становятся более частыми надписи о предназначении сосуда для пиров с пэнъю. В отдельных надписях пэнъю упоминаются вместе со свойственниками (которые, однако, отдельно не упоминались), но другие люди, не имеющие отношения к клану, в западно-чжоуских инскрипциях не фигурируют. Следовательно, ю/пэнъю были очень близки к клану, и даже ближе, чем свойственники.
Пункт 2, тем не менее, указывает, что ю могли не только участвовать в пире, но и совершать жертвоприношения. Таким образом, они должны были принадлежать к клану владельца сосуда. Можно было бы предположить, что ю/пэнъю, заключая союз с данным кланом, вступали фактически в отношения побратимов и приобретали права, равные правам членов клана по рождению. Поэтому было бы неудивительно, что ю/пэнъю приносили жертвы отдаленным предкам, особо почитавшимся всей клановой группой. Однако в надписи на поздне-западночжоуском сосуде Цянь сяоцзы гуй говорится:
"Ши, малый сын [из рода] Цянь, вместе со своими ю изготовил жертвенный сосуд [для своего отца] -наня [и матери] Ван-цзи”.
Автор надписи называет себя “малым сыном” (сяоцзы), поскольку обращается к своим родителям. Назначение сосуд для жертвоприношений родителям Цяня сужает круг их возможных участников до его единоутробных братьев и их детей. Цянь, тем не менее, не упоминает в надписи своих младших братьев. Древнекитайские семьи были многодетными, но, конечно, могло случиться, что у Цяня братьев не было. Либо "друзья"-ю в действительности и были его настоящими братьями, либо - его личными "побратимами".
Однако надпись Цяня не уникальна. Были и другие западно-чжоуские инскрипции, в которых упоминались ю/пэнъю, иногда одновременно со свойственниками, но никакие кровные родственники в тех же текстах не назывались (см. пункт 3). Учитывая безусловный приоритет клановых ценностей в западно-чжоускую эпоху, такое невнимание к близким родственникам при подчеркнутом интересе к ассоциированным членам клана и родственникам по браку выглядит по меньшей мере странным. В ходе обсуждения моей статьи "Friendship in Early China" на электронной конференции Warring States Working Group Уолен Лай высказал предположение о том, что кровные родственники не упоминались в этих текстах потому, что отношения внутри клана были стабильными и надежными, а связи со свойственниками и с "друзьями" требовали ритуального закрепления. Такая версия предполагает значительную идеализацию внутрикланового единства, если учесть, что один клан мог насчитывать более двухсот членов (только мужчин). Ряд поэм Шицзина ("Канона поэзии"), составленных в конце Западного Чжоу – период Чуньцю, свидетельствует о достаточно напряженных отношениях среди родни. Было бы наивно считать, что в более ранний период внутри кланов не было конфликтов. Более того, сами жертвоприношения в храме предков и ритуальные пиршества преследовали цель не столько выполнения сакрального долга по отношению к предкам, сколько поддержания кланового гомеостаза.
"Пропуск" кровных родственников в надписях о ю/пэнъю свидетельствует об одном – термин "друзья" был, скорее всего, общим для всех групп кровных родственников-членов клана. Вообще же, членами клана (цзунцзу) могли являться родственники по мужской линии вплоть до пятого колена, и они, как позволяют предположить данные Цзо чжуани, также могли называться пэнъю
.В текстах западно-чжоуского времени часто упоминают ю в связи с какими-то должностными функциями, поручениями и военными кампаниями. Однако не следует переводить этот термин как название должности или рода занятий - "ю" и в этих случаях, по-видимому, оставалось термином родства. Согласно нормальной практике чжоуского государства, представитель знати, назначенный на должность, опирался в своей деятельности на свой клан. Чжоуская армия комплектовалась из клановых ополчений, которые вставали под начало удельных правителей. Глава клана давал своим ю ответственные поручения:
"В третьем месяце, день дин-мао военачальник Люй со своими людьми не последовал за ваном в поход против юйфаней. Лэй отправил своего ю Хуна сообщить об этом Бо Мао-фу..."
Упоминание ю в соответствующих контекстах свидетельствует об уровне взаимодействия клановых, бюрократических и военных структур.
При том, что кланы представляли собой иерархически соподчиненные вертикальные структуры, как уже отмечалось выше, их монолитность и дисциплина не должны переоцениваться. Клан (цзунцзу) состоял из "ствола" (да цзун, "большого (основного) клана") и "ветвей" (сяо цзун, "малых (боковых) кланов"). "Ветви" могли отпадать от "ствола" и давать начало новым кланам, что вело к людским и территориальным потерям и не было в интересах основного клана. Консолидация клана и борьба с сепаратизмом отдельных цзу были важной задачей не только самого клана, но в определенные периоды волновали и верховную власть. Так, в надписи на сосуде Мао-гун дин говорится:
Ван сказал: “...Доброжелательно проверяй, [чтобы] твои ю [действовали] надлежащим образом (шань сяо
най ю чжэн), не смели погрязнуть в пьянстве, не смели отступать…”".Чжоуский правитель считал главу клана ответственным за проступки его ю, так же как, с другой стороны, мог наградить его за заслуги, совершенные вместе с ю:
"Ван прибыл во дворец
; Чжэня. Да со своими ю охраняли [вана]. Ван устроил пир. Ван приказал шаньфу Цзи пригласить Да с его ю пройти внутрь. Ван позвал цзоума Иня и приказал ему подарить Да 32 скакуна".Очевидно, что отношения между главой клана и "друзьями"-ю не были симметричными, а строились по иерархической модели. Надписи на бронзе показывают, что термином ю мог называть прочих членов клана его глава. Неизвестно, называли ли так же сами члены клана друг друга и, тем более, главу клана. Возможно, примером симметричной "дружбы" между членами клана могут быть надписи на сосудах, принадлежавших Цзюе Цао - он изготовил два "драгоценных дина", чтобы пировать с "друзьями" (пэнъю). В то же время, Цзюе Цао не сообщал о намерении совершать жертвоприношения в храме предков - вероятно, потому, что не имел на то полномочий, не будучи главой клана. Значит, и отношения его с пэнъю вполне могли быть "горизонтальными".
Этические категории, встречающиеся в контекстах, связанных с ю, характерны для отношений внутри родственной группы. Обращает внимание использование в тексте на сосуде Мао-гун дин (и в других аналогичных) термина шань – "добро". Ю (уже успевших, судя по всему, и погрязнуть в пьянстве, и "отступить") следовало не "подчинять" и наказывать, а "привлекать" и воспитывать. Насилие по отношению к родственникам, по крайней мере на уровне риторики, считалось недопустимым, и глава "большого" клана должен был привлекать и удерживать "малые" кланы, а также всех членов клановой организации в целом с помощью поощрений.
Выражение "любви" (хао) и особенно "сыновней почтительности" (сяо) по отношению к ю/пэнъю (пункт 5) выглядит вполне естественным, если последние являлись кровными родственниками. Сам термин сяо обозначал, прежде всего, один из типов жертвоприношений, совершавшихся в храме предков. В структуру самого иероглифа входит графема цзы – дитя, сын, - указывающая на родственные отношения между субъектами данного ритуального действия. Этическое осмысление сяо как "сыновней почтительности" вторично по отношению к данному сакральному смыслу, а перенос сяо как морального принципа на другие, не-родственные формы отношений, относится уже к пост-конфуцианскому периоду китайской истории.
В западно-чжоуское время термин сяо, по-видимому, помимо названия жертвоприношения обозначал взаимоотношения между родственниками, подразумевающие взаимную опеку и воспитание младших. Важно, что действие сяо не было "направлено" только снизу вверх, выражая отношение нижестоящего к вышестоящему, но, очевидно, носило двустороннюю направленность. Таким образом, автор надписи, адресовавший сяо своим пэнъю, мог иметь в виду и почтение к "старшим братьям и дядьям" и заботу о "младших братьях и сыновьях".
Принцип сяо, по существу, можно рассматривать как выражение обязательной взаимопомощи и круговой поруки, на которых основывались клановые взаимоотношения. Это касалось и внутренних дел самого клана и функций клана как ячейки государственного устройства.
В конце Западного Чжоу знак ю стал обозначать самостоятельную этическую категорию, близкую по содержанию к сяо и выражавшую идеал отношений между членами клана - "братскую любовь" или "дружественность":
"
Сыновняя почтительность (сяо) и дружественность (ю), заставляют Цяна утром и вечером не отступать".Интересно, что в состав иероглифа ю в данном и в некоторых других текстах входит графема гань - "сладкий", "приятный". Ее включение, возможно, указывает на особое значение для взаимоотношений между пэнъю совместных ритуальных трапез. С другой стороны, не исключено, что этот элемент выявляет эмоциональную и эстетическую сторону отношений между пэнъю - их взаимное "приятельство".
Ниже в таблице я постараюсь показать основные характеристики западно-чжоуской "дружбы"-ю. Итак, "дружба"-ю это союз:
|
|
Коллективный |
|
это принципиально |
|||||
|
Основанный |
на родстве |
|
как правило |
|||||
|
|
включает |
участие в клановой организации |
это принципиально |
|||||
|
предполагает |
Иерархичность |
это принципиально |
||||||
|
|
|
участие в ритуальных действах |
|
|||||
|
|
|
совместную деятельность |
|
|||||
|
|
|
взаимопомощь |
|
|||||
|
|
|
взаимную симпатию и удовольствие |
в том числе |
|||||
Акулов А. Ю.
(СПбГУ)Айнская компонента японского этногенеза
Некоторые общие сведения
На северо-северо-востоке Японского архипелага, на острове Хоккайдо, живет очень интересный и малочисленный народ – айны. Автор очерка айнского языка – В. М. Алпатов пишет об айнах следующее: “К началу I тысячелетия н. э. айны населяли северную и восточную части Японских островов (остров Хоккайдо и значительную часть острова Хонсю, предел распространения айнов на Хонсю остается неясным), южную часть острова Сахалин, примерно до 50° северной широты, Курильские острова и южную часть полуострова Камчатка. К XIX веку айны были полностью вытеснены с Хонсю японцами. В ХХ веке айны сохранились лишь на Хоккайдо и на юге Сахалина”.
Aynu itak
Что касается айнского языка (Aynu itak), то он – агглютинативный, с элементами флексии, что говорит о его древности. В настоящее время он относится к языкам-изолянтам, наряду с баскским и некоторыми кавказскими языками. К 70-м, 80-м годам айнский язык почти вышел из употребления, что явилось закономерным следствием чрезвычайно жесткой ассимиляции и
японизации айнов.Многие исследователи даже заговорили о том, что айнский язык исчез к середине ХХ века ...
В настоящее время, однако, возникло много обществ по изучению айнского языка и айнской культуры и среди айнской молодежи наблюдается интерес к своим традициям.
Завязка исследования
Известно, что японская археология началась в 1877 году с раскопок Эдуарда Морзе, который приехал в Японию с целью изучения брахиоподов из прибрежных вод архипелага. Во время поездки из Йокогамы в Токио в местности Оомори он обнаружил древнее поселение с раковинными кучами. Одну из таких куч он исследовал и обнаружил в ней керамику дзёмон, ножи, скребки и т. п. В 1879 г. молодые японские археологи Сасаки Тюдзиро и Хадзита Индзима, последователи и ученики Э. Морзе, раскопали
такую же кучу в Окадайри. Находки в Окадайри были во многом аналогичны находкам в Оомори. Встал вопрос об этнической принадлежности создателей раковинных куч.Эдуард Морзе попытался дать ответ на этот волнующий для японцев вопрос, однако древнее поселение в Оомори преподнесло неожиданный сюрприз. Вместе с черепками и каменными орудиями были обнаружены человеческие кости. Причем они были расколоты так, как обычно разбивают кости животных, чтобы достать костный мозг. Это дало повод Эдуарду Морзе заключить, что на стоянке в древности жили племена людоедов. Эти каннибалы были названы Эдуардом Морзе протоайнами, так как предполагалось, что ни айны, ни японцы никогда каннибалами не были.
Сразу напрашиваются некоторые возражения. Во-первых, говорить о протоайнах, видимо, разумнее имея дело не с находками трехтысячелетней давности, а рассматривая начало эпохи Дзёмон, ибо вряд ли имеются существенные различия между айнами, жившими три тысячи лет тому назад и айнами, которые жили в начале ХХ века.
Во-вторых, что касается каннибалов, то здесь все более ясно. Современные айны, безусловно, не являются людоедами, но не следует забывать о том, что в айнском языке существуют еще слова, происхождение которых можно объяснить только тем, что когда-то айны были каннибалами. Вот эти слова: пайсере – мясо нижней части, пентрам – мясо верхней части, урай
киниге – специальное приспособление для ритуального убийства людей.Кроме того, в связи с каннибализмом уместно, пожалуй, упомянуть об обряде изготовления и принесения в качестве жертвы особого ритуального предмета, инау. Инау – это заструженная палочка, которая согласно поверьям айнов, является посредником между мирами. А. Б. Спеваковский пишет, что инау – это заменитель живого человека, который приносился в жертву в особо важных случаях посредством вскрытия живота (обряд пере) и отрубания головы. Стружки инау, скорее всего символизируют внутренности, вывалившиеся наружу в результате исполнения обряда пере. О правомерности такого умозаключения свидетельствует также и тот факт, что для изготовления инау использовался специальный нож – чеики макири, подобно тому как для обряда пере использовалось специальное оружие. Аналогичным образом совершалось и японское харакири – сэппуку, где использовали “свежее” оружие.
Таким образом, мы можем сказать, что люди, оставившие раковинные кучи в Оомори и Окадайри, очень напоминали айнов, которые живут в наши дни. Кроме того, известно, что айнской культуре на Японских островах не может быть меньше трех тысяч лет, поскольку об этом можно судить на основании радиокарбонного метода. Думается, однако, что айнская культура на Японском архипелаге несколько древнее; кроме того, открытым вопросом является и этническая принадлежность айнов.
Гипотеза Эдо Найланда
Палеолинтвист Эдо Найланд выдвинул гипотезу о родстве айнов и басков (гипотеза сама по себе не нова, но интересно то, что Найланд в качестве доказательства сопоставляет айнские и баскские слова). Он утверждает, что айны и баски являются реликтовыми этносами, потомками какого-то очень древнего суперэтноса. Он полагает, что культурный центр этого суперэтноса находился где-то на территории Средиземноморья. В этом этносе существовал некий универсальный язык. Затем из этого древнего центра началось расселение. Слово ain’u Найланд интерпретирует как производное от баскского слова aienatu (исчезнувшие, ушедшие).
Эдо Найланд приводит баскское слово bertsolari, обозначающее профессиональных запоминателей. Они были обязаны помнить легенды и мифы, заменявшие отсутствовавшую письменность. Время от времени эти профессиональные запоминатели съезжались отовсюду в определенный центр - который скорее всего находился на острове Мальта - чтобы стандартизировать свои знания, и, конечно же, сам язык. Когда же расселение завершилось, и потомки того древнего суперэтноса оказались разделены огромными пространствами, частые контакты профессиональных запоминателей, естественно, прекратились; хотя сама традиция bertsolari не исчезла, она лишь приобрела локальный характер. Такие встречи теперь происходили локально: в Индонезии, Меланезии, на Марианских островах, на Новой Зеландии. Имели место они и в айнских землях (на Японском архипелаге и Курильских островах). Так языки постепенно все более и более обособлялись, поэтому теперь мы имеем то, что имеем.
Эдо Найланд полагает, что на Японских островах айны появились около 8-7 тысяч лет назад, что подтверждает гипотезу японского этногенеза, которую выдвинул Ока Масао, так как по Ока эпоха Дзёмон началась именно около 8-7 тысяч лет назад. Очень возможно также и то, что айны, по крайней мере часть из них, прибыла на Японские острова не из Азии, а с островов Тихого Океана. Найланд утверждает, что айны не только совершали плавания на Аляску за оленьими шкурами, но и совершали еще более дальние путешествия. Практики мореплавания передавались из поколения в поколение от отца к сыну и хранились в тайне от остальных соплеменников. Это умение было достоянием лишь некоторых родов .
Теперь айны выходят в море только на лов рыбы. Мореплавательские, навигационные техники утрачены, но память о них осталась в преданиях.
Айнская культура – японская культурная подстилка
Таким образом, можно сказать, что айнская культура – это то, на чем вырос японский этнос, ведь именно на поле айнской культуры раскинули свою культуру полинезийцы, прибывшие на острова в середине эпохи Дзёмон.
В японской культуре есть и прямые заимствования из айнской: так, обряд харакири – сэппуку имеет своим прообразом айнский обряд пере, а важнейший и священнейший комплекс Синто, три императорские инсигнии, “меч, зеркало и магатама, яшмовые подвески – почти полностью совпадают с ритуальным комплексом айнов: палицей вождя (сэкибо), дискообразными символами солнца (причем в обоих случаях солнце – женское божество) и той же магатама ...”
Айнов можно назвать “кельтами” Тихого Океана: они также как и кельты послужили культурной подстилкой многим этносам, а сейчас практически полностью исчезли. Когда айнский этнос переживал свою акматическую фазу, индоевропейцы и палеоазиаты еще находились в зачаточном состоянии. Теперь же айнский этнос представляет из себя этнос реликтовый.
Кошелев А. М.
(Уральский гос. университет)Внутренние факторы формирования японского социума
Введение
Развитие общества обусловлено многими факторами, как внешними, так и внутренними. Мы ставим целью рассмотреть внутренние факторы, оказавшие влияние на формирование “генотипа” японского социума. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
Хронологические рамки исследуемой темы: трудно выявить начальные этапы в формировании “цивилизационного кода” японцев. Вероятно, они относятся ко времени заселения вновь пришлыми племенами архипелага и, далее, распространения культуры риса. Верхняя граница доходит до VII – VIII вв., к периоду, когда государство оказывает уже значительное влияние на национальный характер. Однако допускается выход за указанные рамки в целях подтверждения положений фактами из японской истории.
Работа выполнена в рамках цивилизационного подхода, но учитывались и точки зрения авторов-марксистов.
Доклад построен в форме историографического обзора.
Природно-климатический фактор формирования японского социума
Практически неоспоримо утверждение, что с самого начала выделения человека из животного мира он развивался в соотнесении с географической средой, а современное человечество живет в условиях, в известной мере созданных ушедшими в прошлое человеческими поколениями. И взаимодействие человека с природой носит обоюдонаправленный характер, т. е. среда обитания оказывает влияние на характер, мировосприятие, хозяйственную культуру людей, на основе чего они, в свою очередь, живут в мире природы, воспринимают ее и воздействуют на нее. Таким образом, природно-климатический фактор “несет в себе” несколько аспектов:
В этом ключе проследим взгляды на географический фактор отдельных людей, так или иначе соприкоснувшихся с Японией.
Уже П. Ю. Шмидт делает попытку связать природу Японии с национальными особенностями японцев. В его работе “Природа Японии” отмечается тяга японцев к воде, омовениям.
П. Ю. Шмидт замечает:
В советский период появилось множество очерков путевых заметок о Японии. Публицисты, путешественники говорят о суровом характере природы Японии (землетрясения, цунами, вулканы). Отмечают такие качества характера японцев, как упорство, способность к преодолению неудач. Японцы часто сталкиваются с ситуацией, когда в один миг разрушается наиболее ценное, что у них имеется. Отсюда созвучность мироощущения японцев воспринятому ими позже буддизму с его концепцией мимолетности и бренности жизни.
Приведем слова Б. Пильняка: “Природа Японии — нищая природа, жестокая природа, такая, которая дана человеку назло. И с тем большим уважением следует относиться к народу, сумевшему обработать и возделать эти злые камни...”.
Географическая среда воздействовала и на общественные отношения, структуру общества, на что обращает внимание В. Цветов: “Чтобы выжить, японцы должны были исступленно трудиться, причем непременно в составе группы, общины. Одиночку ожидала неизбежная гибель.”
С другой стороны, многими авторами проводится идея о покорности, примиренности японцев с неизбежным. Истоки этой черты, вероятно, кроются во взаимоотношениях с природой (неизбежные стихийные бедствия). В природе часто покорность, мягкость побеждают (сравните: травинка при цунами и прочное твердое дерево). Этот же принцип действует и в исконно японском боевом искусстве – айкидо.
Один из элементов, составляющих географический фактор – географическое положение страны. Изоляционизму, островному положению государства Япония отдают должное практически все исследования.
В 80 - 90-е гг. появились новые подходы к проблеме географического фактора, Следует упомянуть, в частности, работы А. Н. Мещерякова и Н. С. Николаевой.
По мнению А. Н. Мещерякова, особенность японской цивилизации заключается в ее высокой информационности. Это явилось следствием природной среды (наличие трехландшафтной системы: море, равнина, горы, находящиеся в своеобразном сочетании).
Н. С. Николаева акцентирует внимание на взаимоотношениях между человеком и природой. На ее взгляд, природная цикличность, повторяемость и неизменяемость природных явлений обусловили традиционализм японской культуры. Она также отмечает натуроцентризм японцев по контрасту с антропоцентризмом западной цивилизации.
Интересно проследить, каким образом проблема природно-климатического фактора трактуется самими японцами. Так, Вацудзи Тэцуро ставит задачу “выяснения функции климата как фактора в структуре человека”. Исходя из своей концепции, автор относит Японию к стране с муссонным типом климата (два другие: пустынный и пастбищный), а проживающих на территории с данным типом климата людей к “муссонному” типу характеров, для которого характерны восприимчивость и смирение.
В целом же японцы признают огромную роль природы в становлении их цивилизации и ее атрибутов. “Для японцев традиционно отношение к природе как к святыне”, - говорит известный архитектор Японии Кэндзо Тангэ .
С другой стороны, человек – неотъемлемая часть природного целого. Поэтому сам человек является фактором развития общества. Возможно, что у японцев способность к активной деятельности заложена уже на генетическом уровне. К переселениям на далекие расстояния всегда склонны наиболее активные индивиды, которые и сформировали основу этой нации.
Тип хозяйственной деятельности и его влияние на “генотип” японской нации.
В рамках данного вопроса необходимо выделить два аспекта:
Прослеживается определенное временное различие между выделенными выше сторонами хозяйственной деятельности. Так, культура риса находит свое распространение в период “яей” (III в. до н. э. – III в. н. э.), хотя в некоторых источниках этот процесс относят уже к V в. до н. э. В начале нашей эры при выделении государства с его институтами уже происходит отделение “своих” и “чужих” по принципу “племена, занимающиеся рисоводством” и “все остальные”. В дальнейшем развитие государства практически неотделимо от рисоводческого хозяйственного цикла.
По мнению японского этнографа Араки Хироюки, японский группизм (коллективизм), подчиняющийся групповому шаблону стиль поведения – следствие того, что в основе японской культуры лежит земледельческая рисоводческая община.
По мнению Накамура Хадзимэ, в рисоводческом обществе индивиды тесно связаны друг с другом и само общество принимает вид единой семьи. Японцы научились придавать чрезмерно большое значение человеческому звену за счет игнорирования интересов индивида.
Основной акцент при анализе истоков своеобразия японских межличностных отношений приходится на организационные принципы японской семьи “иэ” и господствовавших в ней отношений. Эта была в большей степени производственная единица в японской деревне; структура “иэ” строилась на основе вертикальных отношений главы семьи с ее членами.
В традиционной японской деревне (общине) существовала еще система отношений “оябун-кобун” (патрон-клиент; мастер-подмастерье). Эта система взаимоотношений явилась определяющей во всем последующем развитии Японии вплоть до наших дней.
Поэтому американский астролог Френсис Сю вводит такой термин, как “иэмото” (“вторичная семья”, то есть “на основе иэ”). “Иэмото” является непрерывной иерархической организацией, сформированных по моделям японских родственных отношений. Модель “иэмото” пронизывает современную жизнь японцев вне их семей. Это, например, организация на предприятии, где работает японец и служащие которого составляют для него “вторую семью”; для этой модели тоже характерно восприятие окружающих как “учи-сото”( “свои-чужие”).
По мнению В. Цветова, труднопроходимый рельеф местности повлиял на то, что основным принципом общения стал следующий: “близкий сосед лучше далекого родственника”.
Интересно, что другой исследователь, И. Бен-Дассан, тоже большое внимание уделяет соседским отношениям. Модель “подражания соседям” стала той поведенческой основой, которая позволила японцам быстро усвоить уроки и опыт Запада.
Н. С. Николаева считает, что любые инновации могли исходить либо от соседей, либо от другого источника вне общины. Внутри общины они подавлялись. Этим объясняется более поздняя тенденция в поведении японцев на внешние заимствования.
С другой стороны, общая характерологическая установка японцев может быть выявлена, например, в “Сказке о зайце и черепахе”, в которой черепаха победила зайца в соревнованиях по бегу благодаря настойчивости труду .
Не менее важным в формировании японского социума стало взаимодействие между тремя комплексами хозяйствования, сложившихся на архипелаге в древности (они указаны выше). В связи с этим А. Н. Мещеряков считает, что истоки высоко информационного общества Японии лежат в этих ранних процессах взаимодействия между хозяйственными комплексами.
Но для приближения к более полному пониманию японской реальности необходим комплексный подход, содержащий в себе множество точек зрения.
Синтоизм и его воздействие на ментально-психические особенности японцев
В данном разделе ставится цель раскрыть следующие вопросы:
Прежде всего уточним, что содержание термина “синто” весьма неоднородно: в синтоизм входили религиозные представления различных родоплемянных объединений и этносов, пришедших на острова.
Синтоизм имеет пантеон богов (ками), что оказало влияние на структуру и формирование государственного аппарата Японии в VI-VII вв. А. Н. Мещеряков отмечает, что в период перехода от древности к раннему средневековью социальное положение японской аристократии определялось по меньшей мере двумя показателями.
Одним из них является тип прародителя рода. В зависимости от того, от какой категории ками (“небесные божества”, “внуки небесных божеств”, “земные божества”) ведет свое происхождение род, он занимает место в аристократической иерархии. Каждый род имел и почитал своего прародителя ( “удзигами”).
Постепенно культ Аматэрасу начинает занимать господствующее положение. На протяжении всей последующей истории Японии основной ролью императора было осуществление жреческих функций как прямого потомка Аматэрасу ( Аматэрасу относится к “небесным божествам”). Тэнно (император) являлся символом преемственности и единения рода в масштабах японского государства. Именно эта идея была взята за основу в концепции “кокутай” (вся Япония как единый организм, семья), которая воспринималась как квинтэссенция истинно японской самобытности японцами периода Токугава.
Таким образом, синто, в какой-то степени, формирует представления японцев о верховной власти, что нашло свое отражение в выразившемся позже “культе императора” и вере в превосходство японской нации над остальными.
С другой стороны, синто определяет мироощущение японцев, отражает тип хозяйствования. Благодаря синтоистским представлениям, японцы ощущали себя частью единого мира природы. Через “ками” происходило восприятие природы и осознание с ней тесной взаимосвязи.
Пожалуй, одной из важных черт синтоизма, всего японского социума представляется четко прослеживаемая традиция преемственности поколений и “выросший” из нее “культ предков”. В наиболее общем значении это чувство стабильности в пространстве и во времени, как
считал выдающийся исследователь японской традиционной культуры Мотоори Норинага ( 1730 - 1801 гг.).Синтоизм способствовал консолидации японского социума посредством многочисленных “мацури” (праздников).
Среди синтоистских обрядов можно отметить обряды очищения. Отсюда такое значение придается в японском обществе чистоте, например, чистоте в доме.
Интересно, что в древности особо опасными преступлениями считались те, которые приносят вред группе, общине, а не отдельному индивиду. Так, богатырь Ямато-такэру убивает даже брата, чтобы принести пользу своему роду. Одна из причин половинчатой религиозности японцев также кроется в синто. С одной стороны, в синтоизме не существовало теологии и догматики. В нем имелись многочисленные идеологические “ниши”, которые и заполнялись другими, вновь проникавшими религиями. С другой стороны, само синто, будучи формой древних верований, не оказалось вытесненным из актуальной жизни, в отличие от Запада, где древние верования со временем исчезли. Причина подобной живучести состоит в том, что “быть японцем и верить в синто во многом означает одно и то же”.
Однако вышеизложенное не представляется единственно верным взглядом на проблему. Безусловно, японский социум формировался под влиянием множества факторов в их единстве, переплетении.
Степанишина А. И. (Уральский гос. университет)
Современная образовательная система в Японии: традиция и тенденции развития
Осмысливая процессы, происходящие в современной Японии, с позиции погружения в социокультурный контекст её собственной и всемирной истории, мы выходим на две сложно переплетённые между собой реальности. С одной стороны, японцы славятся своим умением заимствовать чужие достижения. Оригинальные разработки, новые формы организации производства и учебной деятельности, созданные в других странах, нередко находят широкое применение в Японии гораздо раньше, чем у себя на родине. Но с другой стороны, заимствованные внешние формы наполняются своим, национальным содержанием, что позволяет достичь феноменальных результатов. На мой взгляд, достаточно интересно и познавательно проследить, как действуют такие схемы на примере образовательной системы Японии (как одной из основных составляющих экономического процветания данной страны); проследить взаимосвязь государственной политики и образования; определить ядро образовательной системы.
1. Все компоненты образовательной системы (дошкольное, школьное, а так же высшее обучения) взаимосвязаны и подчинены единой цели - передать подрастающему поколению традиционные моральные и культурные ценности современного японского общества (коллективизм, уважение к человеку и природе, стремление к максимальной творческой самоотдаче)
2. В средневековой Европе религия и мораль были, преимущественно, сферой деятельности могущественной церкви. Буддийские храмы в Японии, утратившие свои позиции во время периода во время периода Эдо, уступили право влияния в духовной сфере новым конфуцианским школам. То есть тогда школы (как, впрочем и сейчас) выполняли функции, разделённые в западном обществе между школой и церковью.
3. Первая реформа образования в Японии, заложившая основы формирования его современного облика, началась с принятием в 1872 г. Основного закона об образовании. Новая система образования, вводившая обязательное бессословное обучение, должна была способствовать раскрепощению воли и инициативы народа, ускорению модернизации японского общества, а так же – достижению провозглашенной цели- “обогащению и укреплению государства”.
4. В предвоенный период (30е-40е гг.) широкое распространение получило милитаристское образование. Над всеми учебными учреждениями, школьными программами и учителями устанавливался строгий государственный контроль. Курсы по военной подготовке стали частью общеобразовательной программы и для мальчиков, и для девочек.
5. На послевоенное время приходится вторая реформа образовательной системы. В 1947 г. был принят “Основной закон об образовании”, в соответствии с которым обязательное обучение было продлено до 9 лет, школьная административная система подверглась децентрализации.
Основной задачей политики японского государства в сфере образования стало воспитание и обучение творческой, неординарно мыслящей, гармоничной и духовно богатой личности, способной действовать в разнообразно консолидированных общественных и государственных структурах.
История современного образования может быть разделена на следующие 5 периодов:
1. Период основания (1868-1885). Был основан первоначальный корпус современного образования.
2. Период консолидации (1886-1916). Были изданы разнообразные школьные законы, была создана систематическая образовательная структура.
3. Период экспансии (1917-1936). Образовательная система базировалась на рекомендациях Чрезвычайного Совета по Образованию (1917-1919)
4. Военный период (1937-1945). Пик милитаристского образования.
5.
Современный период (1945-наши дни). Образовательные реформы во время союзнической оккупации.I период (1868 - 1885)
Дух раннего периода реставрации Мэйдзи лучше всего проявился в призыве, который вдохновил интеллектуалов японского общества, - “цивилизация и просвещение ”. “ Этот лозунг, - пишет Джон Холл, - стал основным руководством к действию тех, кто мечтал о выходе Японии из эпохи невежества”
1Выдающимся защитником” цивилизации и просвещения ” выступил Фукудзава Юкити. Именно он задал тон реформам образования, особенно своей публикацией “ Призыв к знаниям”, где подверг критике конфуцианские ценности и поднял на щит западные идеи. В школьные программы внесли всё, что удалось узнать о Западе, традиционные моральные принципы временно отошли на второй план
.Проведение реформы образования стало предметом острых дискуссий различных политических сил. Нация разделилась на политические фракции, каждая из которых защищала своё видение реформы образования. Результатом этой борьбы стало доминирование точки зрения, согласно которой необходимо сочетать сильные стороны современной системы образования ведущих мировых держав с традиционными духовными ценностями Японии.
В июне 1871 г. было создано Министерство Просвещения. В 1872 г. правительство Мэйдзи разработало план реформы современной школьной системы в национальном масштабе и в августе провозгласило Закон об образовании. Основные цели этого закона четко представлены в Осейдасачешо (сопровождающей этот закон прокламации):
1. образование должно обеспечивать успешное продвижение человека по социальной лестнице
2. функция школ состоит в том, чтобы прививать патриотические чувства у каждого человека
3. все японцы должны обучиться практическим наукам, что, в конечном счете, принесёт пользу обществу и поможет построить современное государство.
Реорганизация системы народного образования происходила по западному образцу. Во-первых, вводилась система обязательного обучения, составлявшая в то время 4 года. Эта система разрушила прежнюю сословную систему образования, которая была привилегией самураев и высших слоев общества. Во-вторых, провозглашалось, что развитие науки и образования будет проводиться не только в целях государственного управления, как это было прежде, а для “личного благосостояния каждого, завоевания положения в обществе и процветания в делах ”. И в-третьих, считалось, что наука и образование должны поднять волю и инициативу народа. Однако отменялся старый обычай, по которому расходы на обучение, одежду и питание покрывались правительством.
Правительство осознавало, что создание богатой страны и сильной армии зиждется на подьеме инициативы и развитии способностей простого народа. При этом ликвидация невежества и низкой сознательности простого народа, который не понимал указов правительства о реформах и постоянно испытывал сомнения и опасения, была необходимой и неизбежной для проведения представителями власти.
Правительство взяло за образец 3-х фазовую систему образования в США, учредив начальные, средние школы и университеты. С другой стороны, школьная административная система была заимствована из Франции: все учебные учреждения находились под сильным центральным контролем Министерства образования. Таким образом, к 1900 г. уже 80% детей соответствующего возраста ходили в школу (в 1872 г., до принятия Закона только 28%), а к 1910 г. процентный показатель достиг почти 100 отметки. Невиданное распространение школьной сети, которой были охвачены даже самые отдалённые горные деревни, проходило под непосредственным нажимом и принуждением властей. Этому способствовала также и глубоко укоренившаяся система господства и подчинения, система беспрекословного повиновения народа. Был установлен строгий государственный контроль над профессией учителя. С этого времени учитель приобретает статус государственного служащего, которому запрещается заниматься политикой. Значение введения новой системы образования заключалось в том, что полностью были ликвидированы старые княжеские школы, все частные школы обязывались получить разрешение властей, и была создана новая система просвещения, контролируемая государством.
Среди ранних иностранных служащих правительства Мэйдзи был Дэвид Марри, профессор математики и астрономии в Раджерском Университете в Нью Джерси. Он 6 лет был старшим иностранным советником по вопросам образования, в звании Управляющего школами и колледжами. Естественно, что он сыграл важную роль в создании современной школьной системы Японии.
Идеальная система образования Дэвида Марри поместила экзамены в ядро образовательной политики. Многие из наиболее выдающихся иностранцев, вовлечённых в образовательные реформы в ранний период Мэйдзи, были миссионерами.
Д. Хепбурн – миссионер американской Пресвитерианской церкви – открыл диспансер, в котором обучал молодых японцев западной медицине. В 1886 г. этот человек помог открыть школу, которая в конце концов эволюцинировала в Университет Мэйдзи Гакуин. Университет Дошиша в Киото стал первым университетом, который начал зачислять женщин.
Большое количество иностранцев, естественно, побудило японцев изучать иностранные языки. Ещё до Реставрации Мэйдзи в Японии существовало 7 правительственных школ Иностранного языка. Они были основаны в Токио, Осаке, Нагасаки и префектурах: Аичи, Ниигата, Мияда и Хиросима. В 1874 г. эти школы стали специализироваться на обучении английскому и поэтому стали известны как школы английского языка.
II период (1886 – 1916)
В 1885 г. была основана кабинетная система, и Мори Аринори стал первым министром образования. Он разработал основу школьной системы следующих периодов
. Ни одна из её основных частей не являлась самодовлеющей. Все компоненты системы – начальное, среднее, профессиональное, университетское образование – взаимосвязаны. Начальное образование было призвано формировать сознание большинства населения страны в соответствии с государственной политикой, определяющей взаимоотношения широких масс и правительства в духе лояльности, основой которой выступал национализм и милитаризм. Сформировалась образовательная система, сочетающая в себе лояльность монарху с приверженностью свободным научным изысканиям, необходимым для успешного становления и быстрого развития Японии как современного государства.Иноуэ Коваши, человек, который стал министром образования после Мори, основал систему частных Сэммон Гакко – профессиональных школ для выпускников начальных школ. После 1899 г. большое распространение получили школы для девушек.
В 1908 г. срок обязательного обучения был увеличен до 6 лет.
III период (1917 - 1936)
Русская революция и распространенные во всем мире требования демократии оказали влияние на японскую политику и образовательную систему. В 1917 г. правительство создало чрезвычайный совет по образованию (Риндзи Кёику Кайги). До того, как он был распущен в 1919 г, совет издал несколько докладов, которые оформили основу для распространения образования в следующей декаде 20 века. Влияние совета было особенно значительным в области высшего образования. До 1918 г. существовали только имперские университеты (до 1897 г. существовал только один – Токийский Имперский Университет). Однако Университетский закон 1918 г. позволил появиться частным университетам. В соответствии с этим законом многие национальные, общественные и частные Сэммон Гакко были повышены до статуса университетов.
В первое десятилетие эпохи Сёва (1926 –1936) в общественном сознании распространялись идеи социализма, либерализма, демократии. Правительство попыталось нейтрализовать влияние левой идеологии, активизировав пропаганду так называемого японского духа.
IV период (1937 - 1945)
Правящий класс Японии в этот период активно возрождает идеологию “японизма”, проповедавшего ультранационализм и милитаризм. К началу 1930х фактически весь процесс обучения и образования контролировался правительством. Министерство образования, местные комитеты находились под прямым контролем Министерства внутренних дел, ведомства, контролировавшего всю нацию. Учебники по географии, истории, написанные и напечатанные самим Министерством образования, были заменены на новые. В конечном итоге школа стала эффективным инструментом подготовки милитаристски настроенной молодёжи.
Со вступлением Японии во Вторую Мировую войну милитаристское образование лишь усилилось: в школах ещё сильнее стали навязывать фашистские идеи расового превосходства японцев и мораль средневековых самураев – преданность военному долгу, самопожертвование во имя “великой Японии ”.
V период (с 1945 г.)
На послевоенное время приходится вторая реформа образовательной системы. Основной целью, которую преследовали оккупационные власти, была демократизация, демилитаризация и децентрализация японского общества. “Милитаристическое довоенное образование было отменено, и была сформирована новая система образования, основанная на мирных демократических традициях”.5 Оккупационные власти должны были трансформировать всю мировоззренческую ориентацию японского общества. Японцы приняли навязанные им реформы, была демонтирована многоуровневая структура образования(при которой для поступления в университет нужно было окончить среднюю школу и подготовительную школу при университете). Была внедрена система “6-3-3-4”: обязательное обучение в шестилетней начальной школе, в средней школе 1 степени (3 года) и второй степени (3 года), затем университет (4 года). Только учебный календарь по-прежнему остался специфически японским: начало учебного года, как в школах, так и вузах приходится на 1 апреля.
28 апреля 1952 г., после подписания Сан-Францисского мирного договора и возвращения суверенитета Японии, были переоценены недавние реформы, был сделан упор на сохранение традиционных японских ценностей. Например, был вновь введён курс морального обучения. Национальному образованию вернули духовную основу. Вот почему японская система образования, в основе которой лежит американская модель, не европеизировалась, а сохранила национальные особенности.
Большое внимание уделяется в Японии дошкольному образованию, ведь согласно утверждениям психологов, до семи лет человек получает 70% знаний и только 30% - за всю последующую жизнь. В детстве закладывается умение ребёнка контактировать с другими людьми, а это в японском обществе, сориентированном на ценности коллектива, очень важно.
Дошкольное образование по традиции начинается в семье. Тихоцкая пишет: “Для японских женщин главным по-прежнему остаётся материнство. После рождения детей жизненные вехи японки, чаще всего, определяются фазами жизни её детей (дошкольный период, школьные годы, поступление в университет и т. д. )”.
7 Многие из японок говорят о том, что воспитание детей – это всё что им необходимо сделать, чтобы их жизнь была “икигаи” - имеющая смысл. Японка рассматривает эмоциональный контакт с ребёнком как своё основное средство контроля. Символическая угроза потери родительской любви является для ребёнка более воздействующим фактором, чем слова осуждения. Взаимодействию с другими людьми дети учатся в семье, наблюдая за своими родителями, однако практика приобщения детей к групповым ценностям осуществляется в детских садах и школах.Японские воспитатели, обучая детей взаимодействию, формируют их в маленькие группы (хан), что является наиважнейшей отличительной особенностью организации дошкольного воспитания. Эти группы имеют свои столы, свои собственные имена, выбираемые самими детьми, что побуждает их принимать решения, учитывая желания всех членов группы, и служат своеобразным подразделением для совместной деятельности. Группы (
6-8 человек обоих полов) формируются не по способностям, а в соответствии с тем, что может сделать их деятельность эффективной. Детям прививается множество навыков: как смотреть на собеседника, как выразить себя и учесть мнения сверстников.Японские дети продолжают обучаться групповому поведению и в младшей, и в средней школе. Так же класс разделяют на ханы (в среднем они переформировываются раз в 5 месяцев) и, когда учителя или учащиеся оценивают выполнение заданий, говорят о нравственных и других проблемах, они чаще обращаются к группе, а не к отдельным детям. По мнению Дена Бешоара, такая система “ помогает сохранить здоровье школьника, т. к. в гармоничных группах исключается дискриминация и связанные с нею стрессы”.
8 Дети широко вовлекаются в управление классом. Первые классы выбирают из числа учащихся наставников (тобан), которые меняются каждый день и, таким образом, каждый ребёнок бывает им.Развитию творческих способностей у детей способствует соробан - японские счёты. И дело не только в приобретении и расширении навыков счёта в уме, усиливается концентрация умственной деятельности, Поэтому изучение соробана является обязательным для учеников третьего и четвёртого класса начальной школы.
Ещё одним аспектом в стратегии социализации со стороны учителей начальной школы является формирование ребёнка как цельной личности. На занятиях, посвященных размышлению и самокритике, которые являются обязательной частью программы в большинстве классов, дети обсуждают, что им нравится и не нравится в школе, отмечают
случаи своего плохого поведения, качество выполнения индивидуальных и групповых задач.Таким образом, мы видим, что учитель выполняет множество ролей и несёт ответственность не только за обучение, но и за дисциплину детей, за проведение свободного времени учащимися, за множество других задач, которые в других культурах никак не связывают с понятием “обучения” и рассматривается как обязанность родителей или других структур. Поэтому японское государство проводит политику строго отбора выпускников вуза при назначении на должность учителя. В отличие от других стран, для того, чтобы стать учителем государственной школы, японский гражданин должен получить диплом учителя и пройти экзамены назначения учителем. Однако, “Япония - единственная из развитых стран мира, где зарплата учителя выше зарплаты чиновников местных органов власти. ”
9.Ещё одной особенностью образовательной системы в среднем звене является то, что в учебном плане отсутствуют систематические курсы химии, физики, биологии, географии, истории. Вместо них изучаются систематические курсы естествознания и обществознания (однако, в новых программах уже предусматривается их дифференциация).
Наиважнейшей особенностью начального и среднего образования в Японии является понятие “кокоро”. Для каждого японца “кокоро” означает идею образования, которая не сводится только к знаниям и умениям, а способствует формированию характера человека. На русский язык “кокоро” можно перевести как сердце, душа, разум, менталитет, гуманизм. Всё японцы убеждены, что наиважнейшей, объективной основой образования в начальной и средней школах является обогащение детей “кокоро” и в меньшей степени знаниями и умениями (в отличие от более унифицированной старшей школы, где акцент делается на передачу необходимых для поступления в вуз академических знаний). В содержании понятия “кокоро” включается следующая проблематика: уважение к человеку и животным, симпатия и великодушие к другим людям, поиск истины, способность чувствовать прекрасное и возвышенное, обладать самоконтролем, сохранять
природу, вносить вклад в развитие общества. Данный принцип пронизывает содержание всех программ, предметов, рутинную ежедневную жизнь.Таким образом, мы видим, что в структурном плане система общего образования во многом напоминает американскую. Однако это относится лишь к формальному построению школы. По своему содержанию, по своему духу, японская школа уникальна. Она никогда не была узко прагматичным средством решения каких-либо частных проблем. Она всегда сохраняла родовую сущность - работала в широком
ценностно-смысловом контексте.Ссылки на использованную литературу:
1. Hall J. W. Japan: From prehistory to modern times. - New-York. Tuttle Co. , 1995. - p. 290.
2. Тояма С. Мэйдзи исин. Крушение феодализма в Японии. – М. : Иностранная литература, 1959. – с. 277.
3. Beasley W. G. Japanese imperialism 1894 – 1945. – London: Clarendon Press, 1987. – p. 94.
4. Imano I. Education and Examination in Japan. – Tokyo: University of Tokyo Press, - 1990. – p. 3.
5. Japan: profile of a nation. – Tokyo: Kodansha International, 1995. – p. 170.
6. Исидзака К. Школьное образование в Японии – Из информационных материалов Посольства Японии, 1991. – с. 9.
7. Тихоцкая И. Современные японки: покорные и независимые? // Азия и Африка. – 1996. – с. 30.
8. Бешоар Д. Делай по – японски. // Народное образование. – 1997. – №7. – с. 132.
9. Дронишинец Н. П. Образование в Японии. – Екатеринбург: Унипромедь, 1996. – c. 52.
Гусева С. Ю.
(РГИ при СПбГУ)Сенека в Египте
(Эллинистический Восток глазами римлянина I в.)
Восток и Запад в диалоге культур – тема, волнующая многих современных исследователей. Антиковеды, изучающие жизнь римлян императорской эпохи, также имеют возможность принять участие в обсуждении этой темы. Подданными Рима в первые века нашей эры являлись не только жители Италии, но и многочисленные провинциалы, уроженцы западных и восточных регионов древней ойкумены. Период принципата нередко воспринимается учеными как время интенсивного воздействия эллинистической культуры на культуру римлян. Не могут не заинтересовать исследователей и источники, содержащие информацию о фактах непосредственного приобщения римлян к культуре включенных в состав империи стран эллинистического Востока. В начале I в. н. э. регионом, еще не очень хорошо освоенным жителями западных областей Римской империи, был Египет. К числу знаменитых римлян, посетивших эту страну в годы правления императора Тиберия, следует отнести и Луция Аннея Сенеку (ок. 4 г. до н. э. – 65 г. н. э.), политика, философа, писателя, драматурга. Знакомство с литературными произведениями, освещающими “египетский период” жизни философа или созданными под впечатлением от путешествия в государство, ранее управлявшееся династией Птолемеев, может помочь исследователям понять особенности восприятия мира Востока людьми, воспитывавшимися в римских традициях.
Сенека – римлянин эпохи принципата, уроженец провинции Бетики, находившейся в западной части империи. Родина философа – испанский город Кордуба (современная Кордова). Однако образование Сенека, сын состоятельных родителей, получил в столице, превратившейся в начале нашей эры в крупнейший центр античной культуры. В 10-е гг. I в. юный провинциал начал слушать лекции обосновавшихся в Риме философов. Сенеку ученые обычно называют стоиком, хотя сам римский мыслитель считал себя эклектиком (Se
n. De vita beata. III,2). Одним из наставников философа был выходец из Александрии Сотион, в учении которого присутствовали стоические и пифагорейские элементы (Sen. Ep. CVIII, 17-22). Возможно, именно он заинтересовал Сенеку культурой эллинистического Египта. В юности Сенека пытался вести аскетический образ жизни. Однако желание добиться славы и успеха на политическом поприще, неравнодушие к материальным благам, являвшиеся проявлениями “римского начала” в философе, оказались сильнее его стремления к самосовершенствованию. В “Нравственных письмах к Луцилию” Сенека упоминал и о недоброжелательном отношении ортодоксально настроенных римлян к проживавшим в Риме “чужеземцам”. В годы молодости стоика члены восточных религиозных общин изгонялись из столицы империи. Отец Сенеки, “римлянин старого закала”, не скрывал своей неприязни к философам и аскетам (Sen. Ep. CVIII, 22). Сенека Младший принадлежал к поколению римлян, родившихся уже в период принципата Августа. Его ровесники более свободно общались с представителями других культур.Побывать в стране, воспетой многими античными авторами, Сенека мог как представитель всаднического сословия и близкий родственник супруги императорского чиновника Г. Галерия, в 16 - 31 гг. занимавшего ответственную должность префекта Египта (Sen. Ad Helv., XIX, 2, 4 - 6). 20-е гг. I в., “египетский период”, следует считать важным этапом в жизни римского мыслителя, исследователя, политического деятеля. В Египте уроженец Кордубы познакомился с общественной деятельностью, бытом, сферой досуга эллинистическо-римской элиты. Сенека посещал александрийский Мусейон, знаменитую библиотеку, встречался с египетскими учеными. Сенека – современник Филона Александрийского, а также упоминаемого в некоторых античных источниках писателя, философа, автора
книг о религии древних египтян Херемона (Хайремона). С Херемоном Сенека, по мнению ряда ученых, поддерживал дружеские отношения. Оба философа стали впоследствии наставниками будущего императора Нерона . Можно вспомнить о том, что известный польский писатель и ученый Я. Потоцкий, создатель нескольких сочинений о древнем Египте, сделал Херемона героем романа “Рукопись, найденная в Сарагосе”.Римский стоик - автор труда “De situ et sacris aegyptiorum” (Sen. Fr.12). Другой вариант названия этой работы – “De ritu et sacris aegyptiorum” . В сохранившемся отрывке из сочинения “О стране и обрядах египтян” содержатся сведения о Филах – острове, на котором находился храм Исиды. Философ пересказывал в своем труде миф об Осирисе, Тифоне и Исиде. Религиозные церемонии участников египетских мистерий Сенека описал в трактате “De superstitione” (“О суеверии”) (Sen. Fr. 35). Сочинения философа – яркое подтверждение популярности синкретических богов в Римской державе I века. Исследователи, рассматривая вопросы о возможности контактов Сенеки с христианами и о подлинности переписки философа с апостолом Павлом, обращали внимание на то, что в 20-е гг. I в. римский стоик имел возможность изучить жизнь александрийской иудейской общины. Однако обычаи иудеев были чужды ироничному римлянину (Sen. Fr. 41). Именно поэтому русские богословы, анализируя высказывания Сенеки о представителях восточных религиозных общин, не относили стоика к числу “тайных христиан”. Философ, по их мнению, был человеком, сумевшим сохранить верность античной традиции.
Современные специалисты пишут о связи Сенеки с эллинистической культурой. В настоящем сообщении мы назовем лишь некоторые факты, свидетельствующие о том, что философ интересовался духовной, интеллектуальной жизнью народов Востока. В одном из ранних произведений Сенеки, трактате “De matrimonio” (“О браке”) (Sen. Fr. 45 - 88), прославлялась жизнь философа-аскета. Римский стоик уподоблял мудреца легендарной птице феникс (Sen. Ep. XLII, 1), а также, в отличие от большинства античных философов, не всегда
ставил знак равенства между благом и знанием, между мудрецом и человеком образованным, изучившим “свободные искусства и науки” (Sen. Ep. LXXXVIII, 31 - 33). Сенека входил в довольно узкий круг латиноязычных писателей, являвшихся авторами сочинений, посвященных проблемам естествознания, что, несомненно, сближало его с представителями эллинистической культуры, александрийской науки. “Naturales quaestiones” - самое известное естественнонаучное произведение Сенеки, в котором описаны различные природные явления. Первые главы четвертой книги “Вопросов естествознания” - очерк о Ниле и жителях нильской долины. Философом были собраны материалы о природе и населении Индии, вошедшие в труд “De situ Indiae”, известный римлянам императорской эпохи (Sen. Fr. 9 - 11).Называя Сенеку человеком, приобщенным к эллинистической культуре, мы все-таки должны обратить внимание на то, что сам философ считал себя римлянином. Сенека был талантливым оратором, преуспевающим юристом и финансовым магнатом, известным политическим деятелем
времени Юлиев-Клавдиев. Не остается незамеченным исследователями и “ромацентризм” Сенеки. Знакомство с творчеством философа дает нам возможность осознать неоднозначность отношения римлян к представителям других культур. Анализ материалов, освещающих “египетский период” жизни Сенеки, позволяет нам видеть в нем римского интеллектуала, умевшего оценить культурные достижения жителей эллинистических государств, и яркого представителя имперской элиты I в., в идеологии которой космополитизм сочетался с верностью римским традициям, с признанием актуальности римских ценностей.
Климов С. А.
(СПбГУ, философ. ф-т)Космос и история в иудаизме.
Культурная оппозиция Восток – Запад представляет собой результат развития в странах Западной Европы и Америки особого рода прогрессистской цивилизации. Само это развитие, реально начавшись в эпоху Средневековья в Европе, было подготовленно возникновением христианства на Ближнем Востоке, а еще точнее, происшедшим до этого времени становлением принципа историзма в библейской религии.
Тема данной работы – анализ формирования в иудейской религии историзма как Weltanschauung и его отличия от космического миросозерцания.
1. Космос – прежде всего пространственный комплекс.
С легкой руки известного культуролога и историка религий М. Элиаде в религиоведении утвердилось следующее представление о структуре пространства для религиозного человека.
1. Homo religiosus живет в неоднородном пространстве, центр которого – место иерофании (явления Священного).
2. Этот центр – средоточие сакральности
.3. По мере удаления от центра пространство профанируется .
4. Центров может быть сколь угодно много, что не противоречит представлениям homo religiosus о мироздании; более того, homo religiosus стремится превратить всякое свое местообиталище в Центр космоса путем совершения соответствующего обряда.
Подобно тому, как пространство в космосе структурируется и обретает свою подлинную реальность благодаря Иерофании, также и космическое время существует только благодаря периодическому возвращению (посредством ритуала) ко Времени Оно ( Illud tempus ) – времени творения мира богами.
Очевидно, что восприятие мира теснейшим образом связано с восприятием Божественного в той или иной культуре.
По всей видимости, боги космоса первоначально являлись “мгновенными богами” (Augenblickgotter), говоря словами Г. Узенера. Так или иначе, мгновенно и непосредственно, либо постоянно, в качестве определенного стационарного объекта поклонения, эти Силы (а древнесемитское 'el “бог” в первую очередь подчеркивает силовой момент) отождествлялись с определенными топосами пространства-времени (с доминированием пространственного аспекта).
В древнесемитской религии, в первую очередь в ханаанейской, с которой столкнулись евреи при поселении в Земле обетованной и с которой с переменным успехом боролись их религиозные вожди, эти наиболее активно почитаемые боги-силы носили имя баалов.
Применительно к человеку, слово baal означало домохозяина, владельца пастбища и т. п.
В арабском языке оно означает “муж”. Чрезвычайно важно, что это слово никогда не употреблялось для обозначения отношения господина к рабу или отношения подчинения.
Баал – владелец какой-то определенной территории, но не господин человеку.
Отметим,что это относится только к баалам. По отношению к верховному богу Элу (deus otiosus, покоящийся бог семитской религии) это неверно. Так, в угаритском ''Эпосе об Акхите'' (KTU 1. 17) ДанниИлу именуется рабом Илу (=Эла). Также были распространены теофорные имена, включающие в себя ‘bd – раб. Аллегория раб-господин несет в себе иной оттенок
восприятия божественного: как раб не имеет своей воли и личности, но только волю и личность господина, так и человек оказывается личностно поглощенным божеством.Отношение к божеству у кочевых семитских народов имело несколько иные акценты (во многом совпадающие с акцентами родовой религии).
1. Определенное божество обозначается по имени того лица, которое явилось основателем его культа.
2. Ассоциация божества с основателем его культа представляется результатом откровения этому человеку доселе сокрытого бога.
3. Божество, открывшееся основателю его культа – личное, не привязанное ни к какому определенному топосу. Отметим, что сами предки-основатели культа со временем приобретают божественные черты и становятся объектами поклонения.
4. Эта связь божества с тем, кто ему поклоняется, а не с каким-то определенным местом, в существенной мере является следствием кочевого образа жизни.
5. Как уже отмечалось, культ божества в значительной степени сливается с культом рода.
6. Бог откровения в некоторых случаях может сливаться с божествами земли, в которую вступают кочевники, не теряя при этом связи с первоначальным основателем культа.
Означает ли подвижность кочевого божества возникновение у кочевников некого нового миропонимания, где пространство (подобно современному секулярному пространству) становится однородным (в эмоциональном отношении)? Нет, ведь, по сути дела, Центр мироздания здесь никуда не исчезает; он может просто передвигаться вместе с кочевым народом (как, собственно, и происходило у древних евреев с Ковчегом Завета; выражением того же представления являются легенды об основании патриархами на местах теофаний жертвенников).
Однако мы вправе все же отметить тенденцию к возникновению однородного (и в определенном смысле десакрализованного) пространства, реализующуюся при некоторых условиях.
1. Характер восприятия Нуминозного должен измениться. В нем должно появиться чувство суверенности Божества, его независимости от воли человека, и условности, относительности его связи как с любым местом, так и с народом (даже избранным народом). Это осознание пришло к древним иудеям, видимо, после разрушения Первого Храма, выраженное на их языке как нарушение Израилем договора с Богом и проистекающие отсюда бедствия. Йахве перестал быть родовым божеством, обеспечивающим процветание иудеев.
2. Нуминозное удаляется из космического пространства, окончательно разотождествлясь с какими-либо объектами этого мира (высотами, столбами, Храмом, царями, пророками).
3. Значит, поклонение такому Богу не может осуществляться исключительно в форме пространственно-временных ритуалов, праздников (или, радикально, не может осуществляться таким образом вообще).
Акцент богопочитания смещается из космической сферы ритуала в историю.
Далее, означает ли многократно подчеркнутый исследователями временной характер еврейского мировосприятия, отличающийся от ханаанейского (мир как olam – временное, а не пространственное единство) переход или изначальное наличие качественно иного, исторического типа мышления? Думается, нет. Ведь, как мы можем наблюдать в современных иудейских праздниках, они являются по сути своей проецированием событий сакрального Правремени на современное профанное время – инвариант мифа о вечном возвращении. Мне представляется, что нет пропасти, кардинального различия между космическим сознанием ханаанеев и временным сознанием ханаанеев и евреев. Хотя, опять-таки, во временном мировосприятии есть потенция выхода за пределы космоса.
М. Элиаде справедливо указывает на качественное различие между Космосом и космическим временем, с одной стороны, и временем историческим, с другой, подчеркивая необратимость и конечность последнего в противоположность вечной повторяемости первого. Он отмечает, что в иудаизме история понимается как теофания, Йахве проявляет себя в исторических событиях, приобретающих свою уникальность благодаря богоявлению.
История, как она понимается в Библии – это нечто, свершающееся здесь и сейчас. Этим она кардинально отличается от истории в понимании современной науки. Для иудея нарушение Израилем Завета (berit-договор) с Йахве (как для христианина нарушение Адамом первого Завета, грехопадение)– не просто историческое событие, имевшее место некогда и утратившее свое значение, но настоящее в подлинном смысле слова. Именно в область истории смещается центр религиозной жизни, Священное. Священное отныне не переживается, а реализуется.
Соответственно, и религиозное действие перестает ограничиваться исключительно сферой культа и ритуала. Вся жизнь человека – служение Богу.
История является не только теофанией, но и местом действия личности, соучаствующей в ее творении. Причем поскольку уникальное историческое событие творится человеком по воле Бога, за всеми событиями стоит действие личности. Война, бедствия народа – теперь не просто явления Не-смысла (типа Исефет египетской религии), но деяния как Бога Йахве, так и человека – его сотрудника (например, вавилонского царя Навуходоносора).
Именно благодаря его действию она приобретает свой линейный, изменяющийся
характер.Действие человека в истории противоположно положению человека в космосе.
Скоков С. Н. (Москва)
Феноменология и мистический опыт Православия.
0.
Введение. Исходной точкой данной работы является стремление продумать русскую мысль как уникальный опыт мировой философии в современном контексте развития общественной мысли. Специфика русской мысли, в ее отличии от иных опытов мысли, как нам видится, заключается в открытости влиянию западного и восточного опытов осознания бытия человека и мира в многообразии их взаимопроявления.0.1.Уникальность России как мира заключается в ее открытости иному. Простор русского мира способен вместить в своей изначальной пустотности весь мир, который предстоит ее взору. Пустотность русского простора обратной стороной своего преимущества, то есть открытости всему, имеет опасность невозможности вынести собственную открытость иному и склонность срываться в нежелание воспринимать полноту иного опыта и мира. Рождающаяся в результате срыва закрытость приводит к невозможности той встречи с Тайной, которую способна вместить не часть мира, а весь мир; если мир сам обособляется от подлинного бытия в непрестанной открытости своей вмещающей полноту Тайны пустоты, то он забывается в заблуждении ложных представлений.
0.1.1. В забвении своей подлинности возникают вопросы об утраченной изначальности бытийствования в духе. Вопросы требуют ответов. Терпеливое и намеренное вопрошание, не удовлетворяясь никакими представлениями, приводит к истинным ответам. Ответы приходят из сердечной запредельности. В сердце говорит Сам Дух, который и есть спасающий Бог. Вопрошание – дело философии, безмолвие, в котором говорит Бог, - дело молитвы.
0.2. Под “иным” следует понимать иной опыт достижения истинного видения того, на что устремлен как умный, так и духовный взор. Россия – место, где встречается Запад и Восток: умный Запад и духовный Восток. Влияние буддийского и исламского востока до сих пор не входили в подлинный опыт русской мысли, так как они не открывали путь к той встрече с духовностью, которую подарила России православная Византия; но Россия включает в себя исламский мир как особый мир самой России, так же как она включает в себя и западный, и буддийский миры, как некоторую часть самой себя, но эти части не делают Россию Россией. Она обретает себя в диалоге на границе миров, там где обнаруживается целый мир. Можно предположить, что русская мысль, в разрушенном коммунистической иллюзией мире, сможет освоить буддийский опыт и сделать его частью собственного опыта. Однако, сомнительно то, что русский буддизм станет полнотой русской мысли, основой которой с самого начала (имеется ввиду 19 век, когда по-настоящему заговорила самостоятельная русская философская мысль) был диалог европейской философии и восточного христианства. И сегодня русская мысль идет по тому же пути, но, благодаря усилиям русских богословов ХХ века, открывших систематический мистический опыт Православной Церкви, она находит для собственного развития глубинные пласты духовного опыта, который обогащает философию новыми возможностями.
0.3. Критичность западной философии и устремленность восточного сердца к единению с Богом позволяют видеть русскую мысль, как подлинно религиозную. Воспроизведение только западного опыта мысли в русском дискурсе скорее редуцирует русское слово к одной из вариаций европейского мышления, нежели приводит к новому говорению в философии. В устремленности к Богу, то есть в молитве, критичное и вопрошающее мышление для духовного опыта, который строг в своих требованиях, оказывается излишним, так как это мышление не приводит к Богу, который входит как Свет, очищая и сердце, и ум устремленного к Богу человека. Но их открытость друг другу, их общение позволяет достичь умносердечного постижения той жизни, в которой есть место для Бога и целостного человека, который утрачен в европейском опыте бытия. Русская мысль, как по-настоящему религиозная мысль, не может быть удовлетворена ничем иным, кроме той Полноты, которую Он дарует, а полнота человеческого существования возможна только при раскрытии целостного человека.
0.4. Современный этап русской мысли включает в себя диалог феноменологии в многообразии ее развития в ХХ веке и неповторимого мистического опыта Православия, который позволяет увидеть истинную глубину Церкви, актуальную во все времена.
1.
Феноменология, по меткому замечанию М. Мамардашвили, является моментом любой философии, но не любая философия именует себя феноменологией. Феноменология есть опыт непосредственного видения того, на что направлено сознание. Феноменология отказывается говорить о чем-либо, что не является данным в опыте, поэтому Гуссерль и утверждает, что феноменолог начинает свой опыт созерцания данного в опыте всякий раз заново. Началом феноменологического познания, в таком случае, является незнание и критика того знания, которое рассматривается как результат естественной установки сознания, а также и критика самой естественной установки сознания, как установки, которая приводит лишь к относительной истине вещей. Критика естественной установки связана с тем, что она не позволяет созерцать данное сознанию в его абсолютной истине; а философия как строгая наука, которая стремиться к совершенному постижению того, что исследуется, не может быть удовлетворена относительным знанием мира.1.1. Исходной точкой феноменологии является требование “вернуться к ‘самим вещам’”. Сам возврат к вещам подразумевает, что знание САМИХ вещей в их истине уже однажды случилось, но по причине неправильного смотрения на вещи оно было утрачено. С религиозной точки зрения, забвение знания истины сущности вещей есть впадение в греховное состояние, которое омрачило ум человека и лишило его возможности созерцать вещи как они есть, исходя из совместного бытия с Богом, которое возможно лишь тогда, когда человек пребывает в чистоте своего существа. Вернуться к вещам в их реальном измерении – означает продумать сущность того сознания, которому будут открыты вещи в их сущности. Иначе говоря, основной вопрос феноменологии есть вопрос не о вещах в их подлинности, а вопрос о том, каким должно быть сознание для того, чтобы осуществлялась истина познания. Долженствование сознания не есть выдумывание утопического сознания (хотя такое сознание может пониматься как подлинно безместное, или пустое, не имеющее место нигде), а есть попытка через отрешение от естественной установки сознания обнаружить то сознание, которому вещи даны в их истине. Изменение сознания совершается в акте редукции, которая исключает вопрос о существовании мира, который дается чувственному восприятию и его обобщению в умозаключении отрывочно; сознание, достигающее истинного знания, возможное лишь в непосредственной интуиции редукции мира и человеческих представлений, делает опорой не эмпирическое Я, которое имеется за пределами сознания, а трансцендентальное Я, очищенное от всех наслоений случайного существования, которому открывается в интенциональном акте сознания чистота вещей и их сущность.
2.
Мистический опыт Православной Церкви есть опыт, в котором достигается единение с Богом через Иисуса Христа. Основой данного опыта является Иисусова молитва, которая включает в себя весь смысл и глубину восхождения человека к Богу. Мистический опыт отличается от философии тем, что центром религиозного опыта является Живой Бог, ставший человеком для того, чтобы человек стал богом, а центром философии является мысль, которая мыслит иное себе как то же самое; для феноменологии, например, бог может пониматься как совершенное Я, конституируемое трансцендентальным Ego. Такое мышление предполагает искусство, то есть совершенное умение, различения мыслимого и самого мышления, которое углубляется с каждым новым актом редукции. Такое же различение, безразличное, то есть остающееся без внимания, для самого опыта, так же входит и в духовный опыт верующего, который на пути к обожению критически воспринимает то, что приходит как свет или как соблазн, который уводит от подлинной отдачи себя Богу. Таким образом, целью христианского опыта бытия стало обожение: Бог стал человеком, чтобы человек стал богом – вот фундаментальная мысль Отцов Церкви. Как возможно обожение? В опытном восхождении к Богу, в центре которого находится Иисусова молитва.2.1. Вера, которая лежит в начале опыта, есть результат встречи с Самим Богом, который показывает себя тому, кто ищет подлинный смысл существования в мире, с целью направить на путь того, кто удивительным образом узнал Бога как Нетварный Свет, то есть свет не естественный, а свет изначальный, когда кроме Бога ничего не было и Светом был только Бог. Вера есть намеренное восхождение к Тому, Кто открыл Себя Сам человеку, и был увиден как Свет. Вера есть намерение быть вместе с тем, кто пришел спасти человека и умер ради человека. Вера становится умным деланием, цель которого есть очищение человека для новой встречи с Богом. Очищение, осуществляемое в акте покаяния, есть избавление от греха, который следует рассматривать как омрачение ума и сердца; причиной этого омрачения оказывается человеческое Я, которое сделало себя центром мира. В непрерывном покаянии верующий преодолевает свое Я, ограничивающее видение мира и Бога, и открывает в сердце своем того сокровенного человека, совершает редукцию от трансцендентального Я к целостному сокровенному человеку, которого нельзя воспринимать как Я, который пребывает изначально чистым, и который способен созерцать Бога в той степени, в какой Он Сам Себя проявляет. Предполагается, что совершенное видение в этой жизни невозможно, но начало осуществления данного опыта делает возможным совершенное видение при втором пришествии Христа во всей царственной полноте.
2.1.1.Фактически, мистический опыт Православия – это непрестанная молитва и покаяние. Молитву и покаяние, феноменологически следует понимать как углубление интенциональности сознания и следующего шага феноменологической редукции, которая в феноменологии сводится к трансцендентальной субъективности и не идет дальше. Покаяние же можно понимать как редукцию от Я к Другому, к Абсолютно Другому, как умаление Я. Феноменология этого не делает, потому что отказ от Я в пользу Другого есть акт невозможный; но он оказывается возможным, когда вера в Бога приводит человека к обновлению его существа. В феноменологии Я конституирует других, то есть делает их активными моментами сознания других я того же самого Я. В мистическом же опыте Я является препятствием, которое не позволяет действовать в человеке Другому, тому Другому, Кто для верующего сознания является единственно истинной реальностью. Достигая единения с Богом, человеку возвращается совершенное видение красоты мира.
2.2. Размышление Каллиста и Игнатия об Иисусовой молитве позволяет понять взаимодействие человеческого Я и Того Другого, Кто был узнан как Сам Бог. “Молитва, со вниманием и трезвением совершаемая внутрь сердца, без всякой другой мысли и воображения какого-либо, словами: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий невещественно и безгласно воспростирает (нам кажется, что слово, которое использует переводчик, подлинный мистик, Феофан Затворник, раскрывает совершенное действие молитвы во всех измерениях) ум к самому призываемому Господу Иисусу Христу, словами же: помилуй мя опять возвращает его и движет к себе самому, так как не может еще не молиться о себе. Но когда он достигнет опытом совершенной любви, тогда всецело воспростирается он к единому Господу Иисусу Христу, о втором (то есть о помиловании) прияв действенное извещение”. (Добротолюбие, т. 5, стр. 369). В русской формуле ко второй части молитвы добавляется слово грешного, что указывает на то, что человеческое Я не может не быть омраченным. Важно понять, что преодолеть Я собственными усилиями человек не может, но при сознательном взывании к Иисусу, Господу мира и людей, человек становится единым с Богом с помощью божьей благодати. Молитва начинается как “предстояние Богу”, но завершается совершенным безмолвным присутствием в Божественном Свете, который освещает все сотворенное в первозданной чистоте. Совершенное безмолвие или феория или духовная молитва есть стояние, нахождение в лучах Непостижимого
Божественного Мрака, который не может быть постигнут положительно как он есть, но постигается отрицательно как Непостижимое. Предстояние есть попытка вхождения в Божественное присутствие, в этом предстоянии верующий осознает себя как недостойного, то есть неспособного созерцать Бога. Покаянная молитва открывает сердце молящегося и делает его единым с умом верующего, благодаря чему человек открывается Богу всецело и Божественный Свет обожает человека.3.
Мы: Я и Другой. Мистический опыт превосхождения себя и восхождения к Богу приводит к открытию нового измерения существования: единых с Богом. Мистический опыт по реализации имеет личный характер, но имеет соборную сущность, которая предполагает существование единого “мы” преображенных во Христе людей. Переход от Я, пребывающего во грехе и кающегося в своем заблуждении, к внутреннему человеку, есть переход к тому мы, что является единым человечеством во Христе. Иначе говоря, философски идею соборности следует понимать как примат “мы” по отношению к “я”. Возможна ли философия не отдельного Я и Другого, а того Мы, которое едино для всех я, нашедших себя во Христе? Если западная философия есть эгология по преимуществу, а феноменология в особенности, а мистический опыт Православной Церкви, отличный от католической мистики, есть опыт Абсолютно Другого, то диалог, который осуществляет русская мысль, приводит к открытию того “Мы”, которое является основой для русской религиозной философии. Мы – это единство всех совершенно молящихся в Духе. “Мы” не означает безликости личности, которая узнает себя в едином сообществе верующих во времени; мы – это бессмертие в Духе Святом, который избирает тех, кто готов отказаться от себя для Другого и тем самым спастись и стать единым с теми другими, которые в бесконечном времени уступили себя большему, нежели их собственное я. Мы не уничтожает я, оно открывает любому я то пространство, в котором действует истинно Другой, и из которого можно увидеть неполноту своего существования как я. Но может быть это мы есть трансцендентальное Я феноменологии? Мы – не Я, так как я конституирует бытие других я, и закрыто для Абсолютно Другого, который открывается целостному человеку и закрывается для ограниченности Трансцендентального Я, а целостный человек един с другими во Христе. Это единство всех верующих и есть Мы: Я закрывает себя от Другого, тем самым оказывается неспособным узнать подлинность своего единства с другими.4.
Заключение. Русская мысль не есть произвольный синтез двух опытов, но есть открытый диалог различных опытов. Особенность диалога состоит в том, что он позволяет родиться чему-то новому из тех положений, которые используются в процессе общения участниками диалога. Будущее русской мысли как уникального опыта осмысления человека в здешнем и горнем горизонтах бытия заключается в дальнейшем углублении диалога философии как опыта мысли Запада и мистического опыта Восточной Церкви. Дело русской философии следует понимать как очищение интеллектуального и духовного пространства для прихода Истинного Бога, ни Бога ума, но Бога человека. Ни дело философии умствовать о Боге, но дело философии как искусства различения готовить приход Бога. Россия в этом смысле подлинно метафизическая страна, не способная устроиться в данном пространстве; ее неустроенность состоит в настроенности на Запредельное, на то Запредельное, из которого приходит Бог. Он может прийти только туда, где для него имеется абсолютно пустое место, где место полностью уступлено для Него, ведь пустота может заполняться не только божественным присутствием.
Корнилов А. П
. (СПбГУ, философ. ф-т)Вопрос о воссоединении коптской церкви с православием
Высадка 1 июля 1798-го года 37000 солдат Наполеона Бонапарта в Александрии только ухудшило положение Коптской Церкви, и без того пребывавшей в состоянии полного упадка. Как только сведения о вторжении французов достигли Каира, в Диван поступили предложения об ответных мерах обороны, среди которых было и предложение о полнейшем истреблении всех христиан. И только ответное наступление войск Ибрахим-бея спасло египетских христиан, в том числе и коптов, от полного уничтожения.
Бедственное состояние Коптской Церкви было усугублено расколом, ставшим следствием инославного миссионерского влияния (в 1630-ом году, с согласия копского патриарха, началась миссионерская деятельность католиков, и католические монахи начали совершать в коптских храмах латинские богослужения и проводить проповедническую деятельность в коптских монастырях Фиваиды и Нитрии, то есть в самом сердце коптского аскетизма, а уже в 1824-ом году папа Лев XII при поддержке Мухаммеда Али создал коптскую католическую Патриархию). Мало того, начиная с 1840-го года на Коптскую Церковь обрушились новые трудности, когда первые получившие образование миряне, объединившись с миссионерами из Базельского “Миссионерского общества”, потребовали
проведения преобразований внутри Церкви. Все это - и состояние оскудения, и переживание бурь и волнений инославного вторжения - получило свое отражение в беседах, которые состоялись между преосвященным Порфирием и представителями коптского духовенства. В этом отношении весьма показательна, например, его беседа с игуменом Даудом:“- Пирамиды уцелели, но надписи вместе с облицовкою их пропали. Жаль этой потери. С нею мы лишены знания о первобытном состоянии Египта. Не менее жаль и того, что утратился язык ваш древний.
Игумен покачал головою и с сожалением проговорил:
Отправляясь в Египет, преосвященный Порфирий был убежден, что копты, восприняв учение свв. Афанасия и Кирилла Александрийских об исповедании “единого естества Бога – Слова воплощенного”, говоривших, собственно, о соединении таким образом двух естеств в одну ипостась, не поняли этого смысла, и преложив два естества в одно, не захотели внести это, утвержденное на IV-ом Вселенском соборе в Халкидоне (451-й год) положение в свои соборные вероисповедания, чтобы не дать повода к заключению, будто они вместе с Евтихием признают во Христе только одно Божественное начало и естество или сливают два естества в одно, и в то же время старались внести в символ веры изречение: “единое естество Бога – Слова воплощенное”, дабы убедиться, что подписывающие такой символ не признают вместе с Несторием двух различных естеств во Христе. Так подозрения с одной стороны и опасение с другой произвели разделение среди христиан: апу Диоскора I, патриарха Александрийского и его приверженцев обвинили в исповедании слияния двух естеств в одно (то есть, собственно, в монофизитстве), а он, в свою очередь, обвинил отцов Халкидонского собора в единомыслии с Несторием. Таковыми представлялись причины отпадения коптов от Вселенского Православия во времена преосвященного Порфирия и таковыми же они видятся в наше время: “Причина же их (монофизитов – А. К.) разрыва с Православной Церковью заключается, вне всяких сомнений, в догматическом разногласиии…” (см. прот. Федор Зисис. О “православии” антихалкидонских монофизитов. М., 1995, с. 18). Но вот, познакомившись поближе с вероучением Коптской Церкви (оно было изложено в особом, посвященном исключительно этому вопросу, сочинении), преосвященный Порфирий обнаруживает, что копты, равно как и другие монофизиты (армяне, сиро – яковиты, эфиопы и соседи последних – шойцы) прекрасно осведомлены о единогласном исповедании и изречении святыми отцами двух естеств во Христе и по соединении их и, мало того, сами исповедуют то же самое учение, и удивляются, и сожалеют, когда слышат, что им приписывается та ересь, которую они прокляли, и в своем удивлении восклицают: “Святые Афанасий Великий и Кирилл Александрийский употребляли изречение: “Исповедуем одно естество Слова воплощенное”, но разумели не слияние, и не изменение или преложение двух естеств в одно, а теснейшее соединение их. То же самое разумеем и мы, когда говорим, что два естества по соединении стали одно естество. Мы анафематствуем как тех, которые с Несторием разделяют два естества, так и тех, которые с Евтихием сливают или соединяют их в одно и исповедуем соединение их без изменения свойств их, только выражаем это исповедание не так, как выражают его греки” (см. преосв. Порфирий (Успенский). Вероучение, богослужение, чиноположения и правила церковного благочиния египетских христиан (коптов). СПб, 1856.). Затем, при исследовании символов
веры, вводимых для паствы собственной Церкви коптскими патриархами уже после Халкидонского собора, преосвященный Порфирий нашел подтверждение этим словам. Оказалось, что в вероисповедании патриарха Шенути сказано: “Бог Слово восприял естество человеческое и соединил его с Собою тесным соединением, сохранив свойства того и другого естества… Единородный Сын Божий присоединил к Себе тело без изменения, смешения или разделения”, а в вероисповедании патриарха Мины II (958 – 976 гг.) говорится: “Исповедуем естество единое и Лицо единое Слова единого, совокуплено из двух чрез единение, обаче без уничтожения, смешения и повреждения обоим” (см. там же).Все эти находки, ставившие под сомнение принадлежность коптов, равно как и и других единоверных им народов Ближнего Востока, к тому классическому монофизическому вероисповеданию, которое отражено в трудах Православных святителей V – VII вв. и в “Деяниях Вселенских соборов”, побудили преосвященного Порфирия во время второй его поездки на Восток в 1858-ом году (она была
предпринята по поручению Святейшего Правительствующего Синода и имела целью возобновление сношений с коптским духовенством в Египте) заявить представителям коптского духовенства: “Копты, мы, вы, все мы держим один Никео-Константинопольский Символ веры (его, этот символ, впервые встречающийся в деяниях отвергаемого коптами Халкидонского собора, содержит, как оказалось, коптский Часослов, хотя сам этот символ никогда не упоминается ни в церквах, ни в домах коптов, ибо не освящен их древним преданием. – А. К.) без всякого изменения его. А что касается до учения о Лице Богочеловека; то у нас и у вас лишь буква этого учения не одинакова, а смысл один и тот же”. И вот после такого вступления, заключающего в себе сделанный преосвященным Порфирием вывод об учении, исподуемом Коптской Церковью, он предлагает следующий образ действий: “Перестанем употреблять в катехизисах, в богословских системах, в проповедях, в разговорах устаревшие и невнятные выражения: “два естества во Христе составляют одно естество”, или “одну ипостась”, “во Христе есть две воли и два действования”, или “тождество двух воль и двух действований”. Будем говорить проще и вернее, вот так: “Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, в котором не слитно и неизменно сохранились все свойства Божества и человечества по соединении их”, как это исповедуете вы, исповедуем и мы: тогда исчезнет недоверчивость между вами и нами. Тогда мы увидим, что у нас один Господь и одна вера, и что никакого воссоединения не нужно, а надобно только возобновить прежний союз братской любви” (см. архим. Порфирий (Успенский). Восток Христианский. Александрийская патриархия. Александрийский сборник. VII. 9. Воссоединение коптов с Православием. СПб, 1898, с. 406 - 407). Путь к осуществлению этой цели представлялся ему таковым: “А что бы я сделал … Я положил бы начало сближения Коптской Церкви с нашею в лице одного Коптского владыки. Я, во имя истины и правды, твердо сказал бы ему, что Святейший Синод Всероссийский прислал меня к Его Блаженству с благою вестию о том, что этот Синод и сним вся Российская Церковь ни его, ни подведомых ему епископов и священников, ни паствы их не считают еретиками – монофизитами, а признают своими братьями по Вере и по чину Богослужения, несмотря на малую разность церковных обрядов, которая не расторгает единства Веры и Любви. Указав ему в своей книге о Вероучении и Богослужении Коптов (выдержки из нее приводились выше – А. К.) общие у нас с ними молитвы, вечерние, полунощные, утренние, часовые, превознесши похвалами все четыре литургии их, нимало не отличающиеся от наших по смыслу и догмату, напомнив ему, что у них священнодействуются одни и те же таинства и содержатся одни и те же правила святых апостолов и Вселенских соборов Никейского и Константинопольского I и одно и то же иконопочитание, одобренное седьмым Вселенским собором, изъяснив ему, что мы так же, как и они, проклинаем ереси Нестория и Евтихия, и что четвертый Вселенский собор в Халкидоне содержал учение святого Кирилла Александрийского о Лице Богочеловека и выразил оное его же словами, я склонил бы его написать послание к нашему Святейшему Синоду и выразить в нем, что вся Египетская Церковь вместе с ним, издревле, сердцем и устами исповедует Никео – Царьградский Символ Веры без всякого прибавления к нему или изменения его, анафематствует ереси Нестория и Евтихия и верует, что “Иисус Христос, единородный Сын Бога живого, есть совершенный Бог и совершенный человек, в котором все свойства божества и человечества сохранены неслитно, нераздельно, неизменно, а в заключении просить Богоубедительных молитв его и покровительства Российской Церкви и Державы таящемуся в Египте христианству. Это послание увенчало бы миссионерский труд мой в Египте. Ничего более, кроме этого венца, я не домогался бы у Коптского владыки, как посланный нашим Синодом благовестник” (см. там же). Мы можем только догадываться, какой отклик нашли эти призывы болеющего душой за судьбу Коптской Церкви преосвященного Порфирия среди коптских иерархов. Однако, известно, что возглавлявший тогда Коптскую Церковь патриарх Кирилл IV (1854 – 1861 гг.) и Александрийский Православный патриарх Каллиник (1859 – 1861 гг.), не без влияния преосвященного Порфирия в 1861-ом году согласились осуществить союз обеих Церквей. C деятельностью апы Кирилла IV связано оживление Коптской Церкви. Обнаружив вопиющее невежество коптских священнослужителей, он основал коптский колледж, в котором, помимо арабского, изучались еще коптский (мечта преосвященного Порфирия, таким образом, сбылась), турецкий, английский, французский и итальянский языки, а кроме того преподавались математика, география и другие светские предметы. Апа Кирилл создал первую типографию, печатавшую церковные книги, строил церковные здания. При нем число епископий возросло с 10-ти до 20-ти, не считая еще и двух зарубежных. Однако, подобная деятельность вызывала подозрения у некоторых предстоятелей Коптской Церкви, усматривавших во всех этих преобразованиях всего лишь вредное влияние католических и протестантских миссионеров. Это глухое сопротивление выливалось порою в недопонимания и столкновения между мирянами и иерархией, что, в свою очередь, вызывало немилость к патриарху со стороны светских властей. Так или иначе, но дело объединения было прервано в связи со смертью патриарха Каллиника и трагической кончиной апы Кирилла IV.Взаимоотношения между обеими Церквами были возобновлены лишь по окончании второй мировой войны, когда православный митрополит Неврокопский Георгий вступил в переписку и прения с Коптским патриархом Юсабом II и другими коптскими иерархами. Юсаб II со вниманием отнесся к вопросу о сближении с Православной Церковью и создал особый совет для изучения этой проблемы. Тогда же митрополит Георгий написал труд под названием “Союз Коптской Церкви с Православной”, в котором впервые было выдвинуто утверждение, что апа Диоскор I был осужден Халкидонским собором как еретик не за вопросы и разногласия в вероучении, а за нежелание явиться в Халкидон для оправдания. Послания с выражением любви и предложением установить сотрудничество и единство направляли коптам и Всеправославное
совещание Святой Горы в 1930-ом году, и Вселенская Патриархия (Константинополь) в 1951-ом году в связи с 1500-летием IV Вселенского собора, и другие Всеправославные совещания. Копты, в свою очередь, горячо откликнулись на призыв православных и послали своих представителей на празднование 1000-летия Святой Горы Афон, на встречи в Монреале, Рочестере, Орхусе, Бристоле и Женеве. Совещание Глав Древних Восточных Церквей в Аддис-Абебе (январь 1965-го года) и заседание межправославного богословского совета по диалогу с Древними Восточными Церквами (август 1971-го года) в Аддис-Абебе показали решимость обеих сторон в продолжении трудов ради сближения. 12 ноября 1970-го года постановлением Святейшего Синода Русской Православной Церкви решено одобрить итоги состоявшейся в августе того же года встречи между богословами Православных и нехалкидонитских Церквей и известить об этом Глав Поместных (Православных Древневосточных) Церквей.В 1985-ом году начался современный диалог православных с монофизитами. В итоге на совещании 1989-го года (при отсутствии представителей Русской Православной Церкви) было предложено вероучительное соглашение. В 1990-ом году на совещании в Шамбези подписано соглашение, предложившее общее согласованное вероисповедание обеих Церквей. И там же в
1993-ем году приняты “Предложения по снятию анафем”. Однако положения этих соглашений вызвали резко отрицательные оценки православных иерархов, не без основания усмотревших в них возобновление монофелитской ереси (см. напр. сб. Пагубное единомыслие. Унии: история и современность. СПб. 1996).Признавая, что Коптская Церковь по догматике,богослужению и устройству очень близка Русской Православной Церкви и живет той же духовной атмосферой, черпаемой из общих источников древнейшего восточного предания и искренне желая скорейшего воссоединения, православные иерархи призывают к осторожности в поиске правильного пути преобразования богословского диалога, который, сохраняя неиспорченной Православную веру, предоставлял бы возможность безболезненного возвращения в нее монофизитов. Именно об этом мечтал преосвященный Порфирий (Успенский) почти полтора века тому назад.
Приложение
Пахомов С. В.
Общество “Традиции Востока”
2 декабря 1999 г. усилиями нескольких молодых энтузиастов на философском факультете СПбГУ было официально создано молодежное научное общество “Традиции Востока”. Мы хотели объединить творческие силы тех студентов и аспирантов учебных заведений Санкт-Петербурга, которые заняты научным востоковедческим поиском. Тем самым молодые востоковеды получили возможность проявить свой внутренний потенциал при подготовке докладов к заседаниям общества, отточить искусство полемики и выявления истинного смысла в общении с коллегами, попасть в живую атмосферу активного обсуждения различных востоковедных проблем. В целях повышения своего научного уровня мы приглашали выступить на наших семинарах опытных востоковедов, и мы очень признательны Е. А. Торчинову, А. В. Парибку, О. В. Альбедилю, С. В. Филонову, А. П. Ольшевскому и многим другим, откликнувшимся на наше приглашение.
Заседания общества проходят обычно в форме слушания и обсуждения докладов на “восточные” темы. Периодически устраиваются открытые круглые столы, посвященные разнобразным проблемам, связанным с Востоком. За последние полтора года мы провели круглые столы и теоретические семинары на такие темы, как “Восток глазами Запада и Востока”, “Философия религиозного опыта”, “Традиция и новация в культуре Востока”.
Одним из значительных успехов общества можно считать проведение молодежных научных конференций, год от года становящихся все более репрезентабельными. Ныне проведена уже III по счету конференция, на которой собрались представители четырех городов России (Санкт-Петербург, Москва, Самара, Екатеринбург) и одиннадцати (к сожалению, не все авторы попали в сборник публикаций) учебных заведений. Многие члены общества выступили с докладами на конференции: С. Пахомов, А. Зельницкий, С. Бурмистров, Н. Перекатиева, С. Шомахмадов, Е. Кий, А. Акулов, А. Корнилов.
Вполне естественно, что в общем списке больше всего представлено молодых ученых с философского факультета СПбГУ. Это объясняется, прежде всего, конечно, тем, что организация мероприятия проведена силами общества, базирующегося на данном факультете. Однако, по крайней мере косвенной, причиной стало то, что образ Востока, который “культивируется” у нас, пропущен сквозь призму религиозно-философских импликаций. Мы стараемся осмыслить феномен Востока (или, скорее, “Востоков”) как особого смыслового поля, как специфического способа мировосприятия и образа жизни, как
синтез своеобразных архетипов традиционности и религиозности, как сплав идей, охватывающих одновременно и ценности жизни, и ценности освобождения.Таковы лики Востока в плане философской обобщенности. Что касается Востока в региональном разрезе, то мы не ограничиваемся тем, что на Западе называют “Asian Studies”, но обращаем внимание и на феномен “христианского Востока”. В любом случае Восток есть определение, данное со стороны Запада, и, сознавая себя отличным от всего “не-западного”, Запад проводит демаркационную черту также и в христианстве, когда говорит о “западном” (католичество, протестантизм) и “восточном” (православие) христианстве. Тем не менее, что тоже вполне закономерно, основную массу сообщений составляют те, что относятся к Индии и Дальнему Востоку. Именно Индия с ее мощной религиозно-философской традицией и Китай с его даосизмом, буддизмом и конфуцианством вызывают наибольший интерес среди начинающих востоковедов, членов общества “Традиции Востока”.
В заключение нельзя не отметить постоянно ощущаемую обществом поддержку, которую ему оказывает руководство кафедры философии и культурологии Востока философского факультета, а также семинар “Восток: философия, религия, культура”. Наше общество входит составной частью в этот регулярно действующий семинар, участвуя в его деятельности; руководителем его (равно как и заведующим вышеназванной кафедрой) является доктор философских наук, профессор Евгений Алексеевич Торчинов.
Председателем общества “Традиции Востока” является (на момент выпуска в свет данных материалов) Сергей Пахомов, секретарем – Александр Зельницкий.